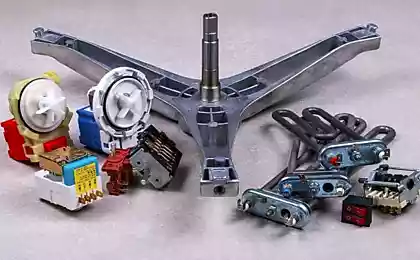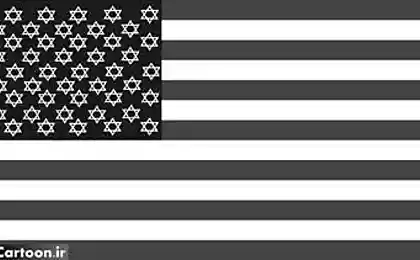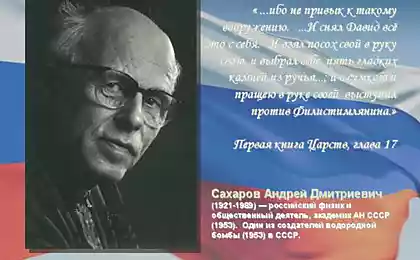614
0.1
2016-09-21
«Весь дискурс терроризма направлен на установление госконтроля»: интервью с Йонасом Стаалом

© Михаил Голденков
Голландский художник Йонас Стаал советует избавиться от устаревшей логики понимания искусства как симулякра или медиума, который может задавать вопросы или же придерживать зеркало, направленное на мир, но не может изменить сам этот мир. В 2012 году он создал художественную и политическую организацию «Новый всемирный саммит», которая проводит конгрессы политических партий, объявленных террористическими. Предоставив право высказаться запрещенным группам, Стаал показал, что «война с терроризмом» была задумана для оправдания государственного террора.






— Я хотел бы поговорить о вашем проекте «Новый всемирный саммит», который был частично представлен в Москве в сентябре прошлого года в рамках выставки «Чрезвычайные и полномочные». Почему вы решили пригласить к участию те организации, которые были объявлены «террористическими», а не, скажем, «экстремистскими», что является более емким и неоднозначным термином? Например, в России именно его используют для стигматизации определенных оппозиционных политических групп.
— Терроризм, как и экстремизм, — это дескриптивный термин, но он также несет вполне определенный смысл, так как является основополагающим понятием политики, выходящей за пределы юрисдикции, которая развивалась в XXI веке. Начиная с того момента, как была объявлена война против терроризма около десяти лет назад, терроризм в западном и глобальном контексте стал понятием, направленным не только на предположительно «маргинальные» группы, но на гражданское общество в целом.
Структурное исключение из политической сферы касается не только «террористических» организаций; диссидентские и прогрессивные группы тоже может поглотить пучина неясного законодательства. По своей сути весь этот дискурс терроризма не подразумевает наказания того, что государство определяет как терроризм, но направлен на установление контроля и инженерии гражданского общества. С того момента, как начались войны против терроризма, «чрезвычайное положение» стало глобальной нормой, а терминология и юридические средства, которые должны были применяться крайне редко, смогли быть использованы по отношению к информаторам — вспомните Ассанжа, Мэннинга и Сноудена — с той же легкостью, что и к протестующим представителям общественных движений вроде парка Гези, где многие участники были арестованы и были осуждены как подозреваемые в терроризме.
По сути, понятие терроризма используется для легимитизации государственного террора: война против него служила экспансии и усилению юридических полномочий государства на глобальном уровне. Радикальный массовый мониторинг информации Агентством национальной безопасности — пример того, как население мира подвергается упреждающему обыску потенциально подрывной информации, если не упреждающему убийству (в худшем случае). В данный момент с ростом влияния самопровозглашенного Исламского государства в Ираке и Сирии — врага, воплощающего собой историю западной военной интервенции в этом регионе, — государства нашли еще одну причину, чтобы сделать статус гражданина более хрупким и уязвимым.
Например, Австралия, столкнувшись с борцами ИГИЛа, рожденными в этой стране и, вероятно, желающими когда-нибудь вернуться на родину, объявила о возможности лишения паспорта тех граждан, кто путешествовал в Сирию при «подозрительных обстоятельствах». Государство предлагает расширить права полиции на обыск, создает условия для ареста без ордера и разрешает Австралийской службе безопасности и разведки (ASIO) приостанавливать действие паспорта, когда это необходимо. Действительный же «золотой век терроризма» начался еще до падения Берлинской стены в 1989 году и был результатом раскола между двумя основополагающими силовыми блоками: Советским Союзом и США вдоль антиколониальных государств (например, Ливия Каддафи), которые финансово поддерживали диссидентские и революционные группы. 9/11 не было новым проявлением безгосударственного терроризма, напротив, оно установило беспрецедентные формы глобального государственного террора.
— Включали ли вы в «Саммит» какие-либо открыто милитаристские организации — например ультраправые партии, или же только группы, соответствующие вашим собственным взглядам, но которые были названы террористическими?
— Первые три конгресса, которые мы организовали в Берлине, Лейдене (Нидерланды) и Коччи (Индия), были сосредоточены на группах, включенных в международный список террористических организаций; мы пригласили их вне зависимости от их истории и политической ориентации. Я думаю, что по своей сути та политика, посредством которой политические организации получили статус безгосударственных, принципиально противоречит понятию демократии.
Например, в Европейском союзе так называемые клиринговые палаты (clearing-houses) решают, кто включен в список, а кто нет; их комиссия состоит из людей, которые публично неизвестны; они встречаются два раза в год в закрытых местах, где принимают решения относительно черных списков; критерии их оценки не афишируются, а расшифровок их встреч не существуют. Неважно, кто включается в черный список; я думаю, мы должны начать с того, что сам этот процесс включения является преступным действием, имеющим серьезные последствия: запрет перемещения, международное преследование и блокировка банковских счетов мгновенно ставит представителей этих организаций вне государства. Циничен уже сам факт того, что обычно ими оказываются палестинцы, курды, баски — представители государств без государства, лишенные государственности путем включения их в черный список, что сталкивает нас с «ограничениями демократиями», теми позициями и дискурсами, которые не могут быть подавлены. «Новый всемирный саммит», напротив, предлагает понятие неограниченной демократии как основу для эмансипационной политики.
«9/11 не было новым проявлением безгосударственного терроризма, напротив, оно установило беспрецедентные формы глобального государственного террора»
Так или иначе организации, которые взаимодействуют с нами, исследуют формы демократической практики; то есть необязательно устанавливают либеральную, парламентерскую демократию, но создают структуры политической репрезентации, которые гарантируют равное распределение власти и богатства. Демократия — это структура, которая обобществляет доступ к ресурсам, и существует множество способов, как действовать согласно этому принципу. Группы, которые мы представляли — такие, как ориентированная на маоизм Коммунистическая партия Филиппин и «Национальное движение за освобождение Азавада», — имели серьезные милитаристские компоненты. Противостояние монополиям власти военными методами может стать началом процесса артикуляции демократических структур: первый шаг — это заставить власть, основанную на несправедливом распределении, отказаться от захвата «общего», что не дается без борьбы, хотя бы без угрозы возможной борьбы.
— Каковы итоги работы ваших конгрессов? Смогли ли участники прийти к консенсусу? Или же процесс скорее носил конфликтный, «агонистический» характер?
— Это зависит от конкретного саммита, потому что каждый из них был структурирован по-своему. Первый саммит в Берлине продолжался два дня. В первый день, озаглавленный «Размышления о закрытом обществе», представители организаций, попавших в черный список, говорили о своей истории, своих целях и о том, как они столкнулись с «ограничениями демократии», оказавшись в этом списке.
Во второй день, названный «Предложения для открытого общества», аудитория расспрашивала организации относительно их мотивов, целей и отношений к применению насилия. Его целью было не прийти к общей повестке, но, скорее, различить множественность голосов, которые были насильственно вовлечены в дискурс терроризма. Эти группы имели различную идеологическую ориентацию; когда Фадиль Йилдирим (Fadile Yildirim) говорила от лица Курдского женского движения (Kurdish Women Movement), она поставила под вопрос принятие существующих государств или требования их признания, как, например, в случае политики баскских, азавадских и филиппинских представителей, которые там присутствовали. Согласно позиции Курдского женского движения, конструкт государства представляет собой систему патриархальных отношений, на основе которых функционируют процессы исключения — в частности, подчинение женщин мужчине. В общем, она размышляла о том, что демократия достижима через освобождение государства посредством радикальной феминистской политики. Этот дискурс произвел фундаментальный раскол внутри стратегий, предложенных разными спикерами, несмотря на то, что их объединяют солидарность и взаимообмен.
«Новый всемирный саммит» пытается показать множественность идеологической и политической борьбы, которая остается скрытой за существующими монополиями власти в политике, экономике и медиа. Мы стараемся написать нарратив «истории c точки зрения сопротивления». Для аудитории мы стараемся ввести как нашу политику, основанную на исключении, так и дать голос тем, кто был ей подавлен. Эти голоса могут отразить гибкость нашей собственной позиции в эпоху массового наблюдения намного лучше, чем государства, которые обещают защищать нас.
— В Москве вы представили архитектурную модель саммита. Почему вы решили поместить его в рамки выставочного пространства вместо того, чтобы организовать подобное мероприятие с участием российских и международных политических групп?
— В «Новый всемирный саммит» сегодня входят десять человек из области искусства, архитектуры, дизайна, философии и дипломатии. У нас есть три основные сферы работы, с которыми мы взаимодействуем: во-первых, мы организуем саммиты, во-вторых, у нас есть школа — «Новая всемирная академия» (основанная совместно с утрехтской институцией BAK, basis voor actuele kunst, благодаря которой мы даем художникам и студентам возможность взаимодействовать с безгосударственными политическими группами, входящими в наш нетворк; и, в-третьих, мы создаем отчетные выставки по этим двум направлениям.
Четвертый «Новый всемирный саммит» мы организовывали 19–21 сентября, он был посвящен теме государства без государства (The Stateless State) и прошел в Королевском фламандском театре в Брюсселе, который собрал около двадцати представителей подобных государств со всего мира — таких, как Курдистан, Западное Папуа, Сомалиленд и Азавад. В октябре главным учителем в «Новой всемирной академии» был выбран писатель и представитель политической и военной организации — «Национальное движение за освобождение Азавада», который прочитал цикл лекций «Искусство создавать государство».
Для осуществления этих проектов были приложены невероятные усилия, годы исследований и траты финансовых ресурсов. Также каждый саммит был отягощен юридическими тонкостями, которые нам следует осознавать. И, конечно, нелегко находить институции, желающие взаимодействовать с проектами такого рода, так как большинство культурных институций связаны — если не полностью зависимы — от государственного или крупного частного капитала, и, следовательно, выбор критической позиции для них не так уж прост. Поэтому мы не можем организовать новое заседание каждый раз. Но не менее важно и то, что знание, собранное в течение каждого саммита, продолжает распространяться. Знание дискурса политических групп, но также и художественной методологии, которая должна развиваться. Выставки — это часть этого процесса распределения.
До сих пор мы говорили только о самом саммите и о том, как он может через сферу искусства взаимодействовать с дискурсами и историями, попавшими в черный список. Но я также говорю о «Новом всемирном саммите» как о парламенте — о новых территориальных конструктах, которые мы создаем для каждого нового издания и которые исследуют социогеографию и исполнение политики. Мы исходим из положения, что идеология — это больше, чем дискурс, что идеология, прежде всего, — это возможность формы. Физические и визуальные качества того или иного пространства и тел, которые его занимают, определяют сами идеи.
Например, если вы посмотрите на палату общин в Великобритании (House of Commons), которая представляет из себя парламент квадратной формы, то лейбористы находятся с одной стороны, консерваторы — с другой, а кресло располагается на третьей. Эту антагонистическую модель пошатнули несколько лет назад, когда либерал-демократы появились в качестве третьей силы. Но их появление в своем роде было обусловлено формой парламента: там только одна из четырех стен оставалась свободной, рядом с лейбористами и консерваторами, напротив кресла: теперь там есть смесь из этих двух партий, расположенная в промежуточном пустом пространстве парламента. Поскольку политика была обусловлена формой, главный вопрос заключается в том, как мы можем себе представить четвертую, пятую, шестую силу. Проблема парламента, каким мы ее знаем, состоит в том, что он предназначен для того, чтобы ограничить и манипулировать политическим воображаемым. Прогрессивная политика состоит как раз-таки в том, чтобы освободить его.
«Новый всемирный саммит» стремится вернуть политику обратно на место ее рождения; это сложное понимание того, как мы разыгрываем мир через искусство»
Мы можем сказать, что тело движется внутри пространства, но я бы скорее сказал, что тело также и исполняет, разыгрывает это пространство. Социальная скульптура — это практика, которая делает возможным коллективное исполнение. Часто говорят, что когда политик врет, он «просто разыгрывает спектакль». Я бы сказал, что проблема политики не в том, что она слишком театральна, но скорее в том, что она недостаточно театральна, или же она — реакционный театр, который не может поставить под вопрос свои собственные условия существования. Театр как искусство не является симулякром. Мы создаем мир через репрезентацию. Через искусство мы представляем мир и поэтому мы можем влиять на него.
«Новый всемирный саммит» стремится вернуть политику обратно на место ее рождения; это сложное понимание того, как мы разыгрываем мир через искусство. Радикальная сила воображения, данная искусству, — это политическая сила, которая позволяет искусству быть более политическим, чем сама политика, потому как оно способно задаваться вопросами своего собственного существования.

— Ваш пример с палатой общин звучит как структуралистское разложение политического спектра согласно геометрической логике… Тем не менее, затронутые вами отношения между искусством и политикой до сих пор остаются камнем преткновения как среди художников, так и среди критиков. Вы открыто вовлекаете реальных политических деятелей в художественную практику — не лишаются они тем самым своей силы? Ваш аргумент парадоксален: вы говорите, что «искусство политичнее самой политики», потому что оно имеет специфические пространство, юридические инструменты и потенциал воображаемого. Что вы подразумеваете под юридическими инструментами и пространством? То, что политика должна со временем оккупировать, а затем вытеснить инфраструктуру искусства, потому что художнику в данном контексте дается больше свободы высказывания и ресурсов, чем оппозиционному политику?
— «Новый всемирный саммит» обычно критикуется по двум причинам: есть критика, которая использует искусство ради политических целей; также есть критика, которая использует политику для художественных целей. Эти два варианта критики противоположны, но в то же время они являются результатом насильственного разделения между политикой и искусством; или, как вы говорите, между искусством и «реальной политикой».
Такая позиция заключается в том, что привнесение политики в художественное пространство лишает ее силы, а привнесение искусства в область политического либо неэффективно, либо является не более чем пропагандой: следует «покинуть» мир искусства, чтобы стать политически эффективным. По-настоящему деполизитизирующий элемент в этой логике — это, конечно, само это рассуждение. Оно в итоге приводит нас к пониманию искусства как симулякра, медиума, который может задавать вопросы или же придерживать зеркало, направленное на мир, но не может изменить сам этот мир. Такое рассуждение лишь воспроизводит статус-кво, это искусство процветает, «делая капитализм более прекрасным», как это лаконично подметила художница Хито Штейерль. Но не существует одного мира искусства, существуют миры искусства.
«Я против реакционной и пропагандисткой логики, которая предполагает, что есть только один мир. Прогрессивное искусство видит и создает радикальную множественность форм, миров, языков, пространств, времени и истории».
В нашей «Новой всемирной академии» студенты обучались и делали свой вклад в работу таких безгосударственных групп, как Коммунистическая партия Филиппин, коллектив беженцев We Are Here и «Пиратский интернационал». Каждый из них предложил радикально иную политическую практику, и, таким образом, каждый из них определил свое место для искусства. Другими словами: каждый предлагает свой, другой мир искусства. Я против реакционной и пропагандисткой логики, которая утверждает, что искусство может только эстетизировать политику: это логика беспомощности, подавления воображаемого, которая лишь обслуживает статус-кво. Она предполагает, что есть только один мир, а это ложно. Прогрессивное искусство видит и создает радикальную множественность форм, миров, языков, пространств, времени и истории: другую образность.
— Вы рассматриваете «Новый всемирный саммит» в качестве модели, наброска или матрицы для переосмысления демократии? Или вы все же предполагаете, что это и есть политика, то есть ваш проект может функционировать как реальная политическая сила?
— Я думаю, это и то и другое. Определять «Новый всемирный саммит» как художественную и политическую организацию означает верить, что воображаемое искусство, его способность ставить под вопрос условия репрезентации могут и должны идти рука об руку с социальной и политической трансформацией: конкретная повседневная работа нужна, как сказал бы Эптон Синклер, чтобы создавать мир.
Но что касается меня самого, я отношусь к себе как к художнику tout court. Не как к политическому художнику или социально-ангажированному художнику. Я не собираюсь отказываться от этих терминов, если они помогают людям прояснить, что я делаю, но для меня слово «искусство» представляет такой новый мир. А прибавлять к нему слово «политика» — все равно, что утверждать очевидное.
Источник: theoryandpractice.ru
Портал БАШНЯ. Копирование, Перепечатка возможна при указании активной ссылки на данную страницу.
Греемся с умом — выбираем правильные радиаторы
5 осенних крем-супов, которые можно приготовить за 30 минут