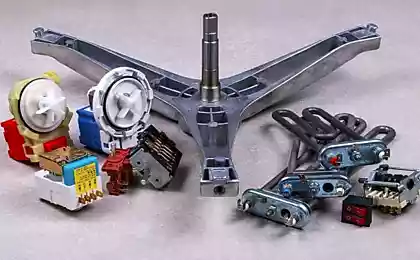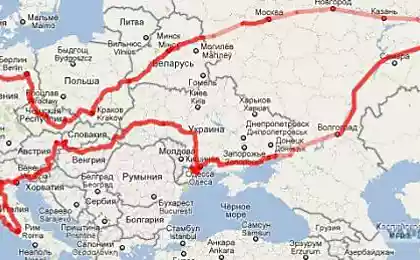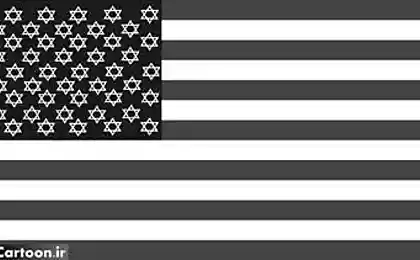999
0.2
2014-04-17
В Тбилиси, где волнуется Кура...
Елена Исаева
В Тбилиси, где волнуется Кура,
когда её не называют Мтквари,
по выходным, часов с семи утра
купца сговорчивого чуют антиквары,
передо мной товары разложив, —
а мне всё кажется, что я их видел где-то,
ещё когда мой бабушка был жив,
как будто вещи из его буфета.
В Германии ходил я на флёмаркт,
В Америке бывал я на ярд-сейлах,
но там иначе, отстранённей как-т’,
— среди вещей поломанных и целых
не жизнь в её предсмертной пестроте,
а так, трофейных фильмов персонажи.
Но там они ж не наши, — вещи те,
а тут уже, в Тбилиси, тут уж наши.
Кто покупал? Кому дарил потом?
Кто на кого орал: “Держите вора!”
Вот бронзовая девочка с зонтом…
Вот блюдце кузнецовского фарфора…
Вот гобелен с семейством у реки,
на нём уже не различите лиц вы…
Прищепка в виде маленькой руки…
Серебряный стаканчик “В день бармицвы…”
(Возможность же всё это описать, —
эмаль кантонскую или сервиз саксонский, —
единственная, в общем, благодать…
Вот и описывайте! Чё я вам, Херсонский?)
Среди других торгующих людей
запомнилась одна мне старушонка
тем, что в китайской вазе перед ней
заметил я мышонка, – нет, крысёнка!
Действительно, рот длинен, зубки кривы,
черты лица остры и некрасивы!
Что ж я заладил! Экая брехня!
Прекрасны зубки. Видно это сразу.
Но как она попала в эту вазу?
Зачем она так смотрит на меня.
Ни тени зависти, ни замыслов пустяшных
не вызывает это существо.
Ей всё на свете так безмерно страшно,
так живо всё, что для иных мертво!
К примеру, швабра, пылесос иль веник.
— Калбатоно, — спрошу я, — сколько денег?
Но та не отвечает ничего.
Что? Будет день, когда она, рыдая,
увидит с ужасом, что вопреки годам
она всего лишь бедная норушка?
(Мне верить хочется, что добрая старушка
на мой вопрос ответит: — Нэ продам!)
Напоминает крошечное тельце:
“Не притесняй, не угнетай пришельца…”
Горит у ней на крошечном челе:
“…ни вдов и ни сирот, поскольку сами
такими же вы были пришлецами
когда-то там в Египетской земле”.
Она сидит, как будто ни при чём,
но, в сущности, боясь пошевелиться.
Мне говорит её умильный облик:
“…возопиют, и Я услышу вопль их…
и каждого из вас убью мечом,
когда Мой гнев на вас воспламенится…”
А если так, при чём тут красота
и почему её обожествляют люди?
Сосуд она, в котором крыса та,
иль крыса та, которая в сосуде?
А глазки-бусинки горят во тьме Китая,
кого-то мне весьма напоминая.
В Тбилиси, где волнуется Кура,
когда её не называют Мтквари,
по выходным, часов с семи утра
купца сговорчивого чуют антиквары,
передо мной товары разложив, —
а мне всё кажется, что я их видел где-то,
ещё когда мой бабушка был жив,
как будто вещи из его буфета.
В Германии ходил я на флёмаркт,
В Америке бывал я на ярд-сейлах,
но там иначе, отстранённей как-т’,
— среди вещей поломанных и целых
не жизнь в её предсмертной пестроте,
а так, трофейных фильмов персонажи.
Но там они ж не наши, — вещи те,
а тут уже, в Тбилиси, тут уж наши.
Кто покупал? Кому дарил потом?
Кто на кого орал: “Держите вора!”
Вот бронзовая девочка с зонтом…
Вот блюдце кузнецовского фарфора…
Вот гобелен с семейством у реки,
на нём уже не различите лиц вы…
Прищепка в виде маленькой руки…
Серебряный стаканчик “В день бармицвы…”
(Возможность же всё это описать, —
эмаль кантонскую или сервиз саксонский, —
единственная, в общем, благодать…
Вот и описывайте! Чё я вам, Херсонский?)
Среди других торгующих людей
запомнилась одна мне старушонка
тем, что в китайской вазе перед ней
заметил я мышонка, – нет, крысёнка!
Действительно, рот длинен, зубки кривы,
черты лица остры и некрасивы!
Что ж я заладил! Экая брехня!
Прекрасны зубки. Видно это сразу.
Но как она попала в эту вазу?
Зачем она так смотрит на меня.
Ни тени зависти, ни замыслов пустяшных
не вызывает это существо.
Ей всё на свете так безмерно страшно,
так живо всё, что для иных мертво!
К примеру, швабра, пылесос иль веник.
— Калбатоно, — спрошу я, — сколько денег?
Но та не отвечает ничего.
Что? Будет день, когда она, рыдая,
увидит с ужасом, что вопреки годам
она всего лишь бедная норушка?
(Мне верить хочется, что добрая старушка
на мой вопрос ответит: — Нэ продам!)
Напоминает крошечное тельце:
“Не притесняй, не угнетай пришельца…”
Горит у ней на крошечном челе:
“…ни вдов и ни сирот, поскольку сами
такими же вы были пришлецами
когда-то там в Египетской земле”.
Она сидит, как будто ни при чём,
но, в сущности, боясь пошевелиться.
Мне говорит её умильный облик:
“…возопиют, и Я услышу вопль их…
и каждого из вас убью мечом,
когда Мой гнев на вас воспламенится…”
А если так, при чём тут красота
и почему её обожествляют люди?
Сосуд она, в котором крыса та,
иль крыса та, которая в сосуде?
А глазки-бусинки горят во тьме Китая,
кого-то мне весьма напоминая.
Портал БАШНЯ. Копирование, Перепечатка возможна при указании активной ссылки на данную страницу.