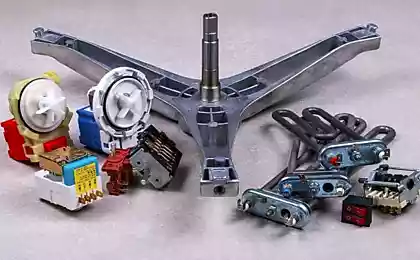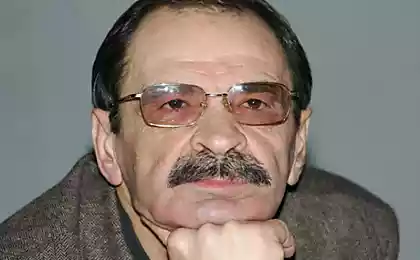493
0.1
2016-09-21
Илья Будрайтскис : Сегодня только богатые нравственно возрождаются за счет остальных

Роман Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» — одно из самых влиятельных художественных произведений современности. По опросам библиотеки Конгресса, это вторая после Библии книга, которая изменила жизнь американских читателей. Проект «Открытое чтение» публикует интервью с историком и публицистом Ильей Будрайтскисом о моральном кризисе в середине прошлого века, авторитаризме Айн Рэнд и актуальном статусе буржуазии. — Меня всегда удивляли люди, которые читают этот роман. Ведь никакого эстетического удовольствия от этого процесса не получить, не говоря уже об объемах — два увесистых тома.
— Я прочитал этот роман, скорее, в исследовательских целях. Эта книга запредельно плохо написана, и уже за счет этого удивительным образом выделяется на общем фоне. «Атлант» Рэнд, впрочем, и не совсем литература — это пропагандистское произведение, которое из себя представляет своеобразное зеркальное отражение социалистического реализма в его худших образцах. В нем действуют персонажи-функции, индивидуальные особенности которых соответствуют их политической роли. Например, у плохих персонажей, которые придерживаются неправильных идей, нездоровый цвет лица, бегающие свинячьи глазки, у положительных, наоборот — высокий рост, красота, сексуальность, здоровые зубы, и в основном они еще, как правило, голубоглазые и блондины (что Айн Рэнд особенно подчеркивает). Однако, учитывая ее увлечение ницшеанством и различными человеконенавистническими идеями своего времени, это вполне объяснимо.
— А чем вы объясняете колоссальный успех, которым этот роман пользуется по всему миру?
— Роман этот интересен, конечно, в силу своего политического послания, потому что в отрыве от этого послания его обсуждать довольно сложно. Послания, которое обладает мощным воодушевляющим эффектом. И в этом тоже есть сходство с произведениями соцреализма, так как соцреализм не просто описывает некую реальность и присущие ей специфические конфликты, но должен заряжать бодростью одну из сторон этого конфликта. В этом отношении, конечно, роман Айн Рэнд написан именно с такой целью: он должен вселить уверенность в тех, кто эту уверенность в определенный исторический момент потерял. И совсем неслучайно, что этот роман появляется именно в конце 40-х годов. Его своевременность, кстати, отмечал в своем восторженном письме к Рэнд Людвиг фон Мизес.
Сопереживание, возведенное в принцип, очищенное от личных побуждений, является опасной химерой. Более того, миражи сопереживания приводят к различного рода насилию над личностью, тирании, к подавлению способности человека самостоятельно мыслить и принимать решения. Познавая себя и свой собственный опыт, люди не освобождаются от морали, но находят ее разумные основания.Автор «Атланта» рисует масштабную картину противостояния между обезумевшими сторонниками социального государства и государственного регулирования — и немногими «атлантами», лучшими людьми, которые возвышаются над серой массой и обладают разумом, способным преобразовывать действительность. Эта особенность разума, согласно Рэнд, и является отличительной особенностью настоящего капиталиста. Вообще, капитализм «Атланта» мало похож на логику капитализма, существующую в реальности. То есть капиталисты, «атланты», — это люди, которые очень не похожи на настоящих капиталистов, и их функции не соответствуют тем функциям, которые реальные капиталисты выполняют на рынке. Речь там идет прежде всего о творчестве, о производстве, но не о капитале как таковом. Неслучайно банкиры почти не появляются в книге и уж точно не становятся главными героями.
— Какими были исторические условия в момент выхода книги? Как они отразились на содержании романа?
— Это произведение было создано в момент, когда практически весь мир — и не только восточная, но и западная его часть — окончательно начал отходить от принципов «свободного рынка», бывших непререкаемой догмой элит на протяжении десятилетий. Именно этот отказ привел к той страшной катастрофе — не только материальной, но и моральной, — которую Рэнд описывает в своем романе. Причем моральный кризис для автора «Атланта» очевидно является ключевым. И здесь есть интересный момент.
Если обратиться к истокам либерализма, то можно заметить, что вопросы морали всегда занимали в ней важное место — однако ответы на них были совсем непохожи на версию Айн Рэнд. Для либералов мораль как нечто, существующее за пределами нашего опыта, за пределами нашего чувственного мира, всегда была идеологической фигурой, которая должна быть вытеснена по мере рационализации личного существования. Либеральная модель прогресса подразумевает, что развитие человечества есть путь постоянной рационализации естественного стремления к максимальному личному комфорту. С этой точки зрения мораль, как то, что возвышается над индивидом и задает какие-то общие категории, которые не могут быть до конца рационально осознаны, стоит на пути прогресса.
Стоит вспомнить Мандевиля, автора знаменитой «Басни о пчелах», написанной в начале XVIII века, который делает в конце этого произведения провокативный для своего времени вывод о том, что частные пороки приводят к общему благу. Речь в этой басне идет о коллективе пчел, у каждой из которых огромное количество недостатков. Однажды пчелы решают проникнуться моральным духом и волевым образом изменить свою жизнь. И когда они это делают, выясняется, что эти частные пороки складывались в одно большое достоинство, в некую естественную логику, которая делает возможной достойную и богатую жизнь для всех. То есть всеобщее благо приходит тогда, когда мы перестаем возводить его на пьедестал, в тот момент, когда мы от него отказываемся как от принципа, давлеющего над каждым.
Другое важное произведение — это «Теория нравственных чувств» Адама Смита, где главным предметом рассуждений является проблема человеческого сопереживания. Что заставляет нас чувствовать чужую боль как свою? И чувствуем ли мы на самом деле чужую боль? Смит приходит к выводу, что нет, на самом деле мы переживаем свои собственные ощущения, свой собственный опыт, отражение которого в наиболее ярком виде мы находим в другом.
Либерализм — крайне авторитарная идеология, потому что, если вы говорите о том, что вы как-то по-другому понимаете разум, что для вас существуют некие ценности, которые лежат за пределами чувственного опыта и личного успеха, то это значит, что вы просто пытаетесь поставить на место действительности, в которой эти принципы очевидно господствуют и являются частью человеческого естества, собственную иллюзию.Отсюда легко можно прийти к выводу, что сопереживание, возведенное в принцип, очищенное от личных побуждений, является опасной химерой. Более того, миражи сопереживания приводят к различного рода насилию над личностью, тирании, к подавлению способности человека самостоятельно мыслить и принимать решения. Познавая себя и свой собственный опыт, люди не освобождаются от морали, но находят ее разумные основания. Точно так же, как познавая собственные страсти, человек не должен усилием воли избавляться от них, но, напротив, должен научиться их уравновешивать, извлекать из них пользу. Этот неостановимый процесс индивидуальной рационализации является принципиальным элементом либерального мировоззрения, и не предполагает коллективных «моральных кризисов».
— В чем заключается основа этого морального кризиса человечества в романе Айн Рэнд?
— В том, что люди перестают использовать собственный разум, надеясь на разум кого-то другого, кто придет и примет за них решение. Таким образом, нарушается и ломается модель утилитарного разума, который всегда единичен, всегда ориентирован на расширение пространства комфорта и меряет окружающую действительность категорией пользы. Это «использование разума» превращается из магистрального пути развития человеческого общества в своеобразную аристократическую привилегию, принадлежащую немногим «атлантам». То, что было естественным и неотвратимым, становится добродетелью, доступной немногим.
«Моральный кризис», связанный с массовой потерей рассудка, похож на эпидемию опасной болезни, которая превращает правило в исключение, а безумие — в правило. Откуда пришла эта напасть?
С начала XIX века мир, в интерпретации либералов, становился все более разумным, предсказуемым и богатым. Поступательное расширение понимания собственной пользы делало людей более сдержанными, приводило их к снижению уровня насилия и конфронтации. Так, для либералов государство не связано с идеей принципиального разрыва между естественным и гражданским состоянием. Государство это продукт эволюции, постепенной исторической рационализации, когда люди сначала создают законы, для того чтобы они могли сосуществовать друг с другом и защищаться друг от друга, а затем постепенно приходят к тому, что для личной пользы стоит выстраивать не позицию защиты по отношению к другому, а позицию кооперации. Именно взаимодействие, добровольный обмен является основой свободы. То есть свобода — это не универсальное качество, не универсальная ценность, а то, что обретается человеком в процессе его самореализации как рыночного агента. И в этом отношении казалось, что мир действительно становится чрезвычайно разумным. Войны постепенно исключаются из его меню или выносятся на периферию, то есть туда, где люди еще не научились настолько рационально мыслить, как в развитых странах.
Эта идиллия нарушается в начале XX века, когда человечество настигает самая страшная на тот момент война из всех возможных. За войной следует еще не виданный мировой экономический кризис, и за ним — новая война. Казалось бы, все эти три связанных между собой бедствия явно указывают на какие-то нарушения модели. Например, из них можно сделать вывод, что свободная экономика не ведет к уменьшению насилия, а, наоборот, ведет к его увеличению. И критики свободного рынка вполне убедительно доказывали, почему это происходит.
Либералы делают из этого другой вывод, который предопределен их чрезвычайно схематичной моделью прогресса. То есть, если люди, пройдя определенный путь рационализации, затем снова возвращаются в состояние отупения и варварства, это происходит в силу того, что они в какой-то момент утратили разум. Люди отказываются от свободного рынка и, например, в Америке приходят к идеям рузвельтовского «Нового курса», который для либералов австрийской экономической школы, на которую ориентировалась Айн Рэнд, был не альтернативной позицией, но разновидностью безумия.
То есть в этом плане либерализм — крайне авторитарная идеология, потому что, если вы говорите о том, что вы как-то по-другому понимаете разум, что для вас существуют некие ценности, которые лежат за пределами чувственного опыта и личного успеха, то это значит, что вы просто пытаетесь поставить на место действительности, в которой эти принципы очевидно господствуют и являются частью человеческого естества, собственную иллюзию. Вы больны тем, что Мизес называет «синдромом Фурье». Проблема «синдрома Фурье» заключается в том, что, в отличие от других синдромов, он до конца не был изучен, и неизвестно лекарство, которое от него лечит наилучшим образом. Хотя, конечно, позже, с развитием медицины в эпоху неолиберализма такие лекарства появились, — например «шоковая терапия»: вид лечения, связанный с приведением человека с помощью электрических разрядов «радикальных реформ» в адекватное состояние восприятия реальности.
— Что с либеральной точки зрения может спасти от этих коллективных «моральных» эпидемий?
— С либеральной точки зрения, нельзя назвать рецепт, который подходит для всех, — то есть нельзя сказать, что надо предпринять ряд мер и всем от этих мер станет хорошо. Необходимо, чтобы к каждому вернулось чувство, связанное с утилитарным разумом, и после этого моральный кризис мог бы быть преодолен. То есть удивительным образом, согласно этой модели, разруха оказывается в головах. Айн Рэнд показывает, где пролегает граница между безумием и разумом, и она очень четко прописывает рецепты пригодные не для общества, но для индивида: как человек должен смотреть на мир, как он должен относиться к окружающим, как он должен выстраивать свою жизнь, что он должен думать о любви, об отношениях между мужчиной и женщиной, отношениях со своей семьей, как нужно понимать искусство — это учительство проходит красной линией через всю книгу.
Рэнд, в принципе, как бы заново открывает весь тот спектр вопросов, лежащих за пределами чувственного опыта, который для либералов вроде был давно закрыт. И открывает она его чрезвычайно авторитарным методом, — потому что человечеству, которое в лице своих конкретных представителей каким-то образом получает избавление от этого страшного синдрома, приходилось бы в ускоренном темпе проходить этот путь рационализации заново, на протяжении одной отдельно взятой жизни. Этот путь из предопределенного природой превращается в акт героизма и моральный подвиг.
Эту книгу любят люди вроде Чичваркина, которые мыслят свою собственную судьбу как разновидность морального подвига. Тем более это важно, конечно, для России, где моральные вопросы перед всеми людьми, которые стали богатыми в 90-е или в начале 2000-х годов, стоят особенно остро. И им важно понять, почему они получили такие невероятные возможности за очень короткий период времени. Теперь ответ ясен — потому, что они стали «атлантами», которые нашли этот внутренний ресурс для иррационального прорыва в мир рациональности.Именно это Рэнд пытается сказать об атлантах — они совершают моральный подвиг. Потому что они не наследуют некие рациональные традиции, которые передаются, воспроизводятся и развиваются, а они, наоборот, должны преодолевать отравленную болезнями реальность, для того чтобы прийти к другой, утерянной и подлинной реальности. И поэтому такой прорыв всегда удивительным образом выглядит крайне иррациональным и крайне воодушевляющим. Именно поэтому эта книга так заводит, поэтому ее любят люди вроде Чичваркина, которые мыслят свою собственную судьбу как разновидность подобного морального подвига.
Тем более это важно, конечно, для России, где моральные вопросы перед всеми людьми, которые стали богатыми в 90-е или в начале 2000-х годов, стоят особенно остро. И им важно понять, почему они получили такие невероятные возможности за очень короткий период времени, почему эти возможности богатые на Западе получали на протяжении нескольких поколений, а они смогли их получить за пару лет. Теперь ответ ясен — потому, что они стали «атлантами», которые нашли этот внутренний ресурс для иррационального прорыва в мир рациональности.
Еще один важный момент у Айн Рэнд, связанный с подобной моральной победой, — это нравственное возрождение. Недавно вышла прекрасная редакция русского перевода книги Сореля «Размышления о насилии», где он проводит очень важную мысль, связанную с моралью. Для Сореля понятие нравственного кризиса является определяющим применительно именно к классам, общностям. И его модель вкратце заключается в том, что после эпохи революционного наступления буржуазии, когда она выступала непосредственно как класс, вовлеченный в борьбу за собственное господство над остальными, она была носителем боевого духа, благородной воинской «морали». Но, победив, буржуазия постепенно лишается этой своей непосредственной классовой субъектности, передавая функции непосредственного осуществления господства и подавления государству. И, передавая эти функции, она передает вместе с ними и функции насилия. То есть классовое насилие теперь выражается не напрямую, а оно опосредовано государством. Это ведет к моральному вырождению буржуазии, а вместе с ней — ее антагониста, пролетариата.
Мораль в этом случае связана именно с коллективной борьбой, с насилием, которое является необходимым условием морального возрождения. Ведь именно в ситуации прямого столкновения рабочие перестают быть просто придатком производства, винтиками в системе — они обретают новую субъектность, и обретают некую новую мораль, которую Сорель называл «моралью производителей». И эта мораль рождается у них в момент, когда, воодушевленные мобилизующим мифом, они меняют свою собственную судьбу через всеобщую и бессрочную забастовку, которая открывает поле битвы и уходит дальше в будущее, и дальнейшие ее очертания пропадают. На этом отстуствии законченных утопических моделей Сорель принципиально настаивал. Он считал, что гораздо важнее поставить на их место этот мобилизующий миф, который дает эту важную для революционера связку между прошлым и будущим.
— Что это означает на практике? Каков нынешний статус буржуазии?
— Получается, что на самом деле, в конце XX века буржуазия в целом переживает моральное возрождение. Потому что неолиберальное государство в известном смысле и есть переход от опосредованного насилия, от силы нормализации, которая сосредоточена в руках государства, к тому, что Дэвид Харви называет прямой реставрацией классовой власти, когда буржуазия снова получает такой бодрящий воинственный дух, возвращающий ее к воспоминаниям о лучших днях, к концу XVIII века. И такие фигуры, как Рейган или Тэтчер, недавно скончавшаяся, они и являются политическими гигантами, «атлантами», которые встают над предшествующей деморализующей политикой социального государства.
Но важно вспомнить, что истоки неолиберализма уходят в небольшие группы интеллектуалов рубежа 1950-60-х годов — сторонников «австрийской школы», предшественников американских неоконсерваторов, и конечно, тех групп, которые формировались вокруг Айн Рэнд. Все они так или иначе мечтали о подобном возвращении благородного духа классового наступления.
Рэнд, в принципе, как бы заново открывает весь тот спектр вопросов, лежащих за пределами чувственного опыта, который для либералов вроде был давно закрыт. И открывает она его чрезвычайно авторитарным методом.В своей книге «Реакционный дух» Кори Робин приводит интервью, которое он брал у Уильяма Бакли, патриарха американского неокорсерватизма. Он спрашивает его о том, какой бы политический выбор он сделал сегодня, если бы был молодым — и Бакли ответил, что стал бы коммунистом. И сделал бы он это по тем же причинам, по которым он стал крайним консерватором в 1950-е, потому что в этом был дух борьбы, через это можно было ощущать этот момент схватки. А быть левым тогда для него значило быть конформистом. Поэтому мне кажется, что прочтение Рэнд сегодня стоит рассматривать еще и в контексте этого нравственного возрождения буржуазии.
Главная проблема заключается в том, что это возрождение имеет как бы односторонний характер. Нравственно возрождаются за счет остальных только богатые. Сорель, кстати, писал, что не всегда классовое насилие приводит к революции. Бывают моменты экономического упадка, когда это растущее классовое насилие элит может привести к прямо противоположному результату — к еще большей деградации. И мне кажется, что еще и поэтому сегодня стоит читать Сореля и Маркса, — чтобы понять, как этот дух борьбы сможет обогатить общество за пределами той узкой группы «атлантов», которых он сегодня вдохновляет и зовет к последней битве.
Источник: theoryandpractice.ru
Портал БАШНЯ. Копирование, Перепечатка возможна при указании активной ссылки на данную страницу.
Есть ли жизнь после смерти: Факты и доказательства
Ибрагим Хамато — единственный в мире безрукий теннисист