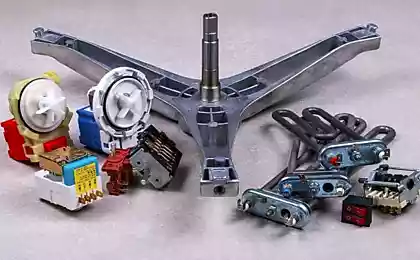736
0.1
2016-09-21
Изобретение чуда: Олег Аронсон об аффективной общности, рожденной кинематографом

© Ger van Elk. Portrait
Проект «Состояние кино» планирует выпустить отрывки из нескольких текстов, опубликованных в 4-м номере журнала «Синий Диван» (2004 год), который был посвящен кинематографу. Для начала — статья преподавателя МШНК и РГГУ, философа Олега Аронсона, в которой он рассматривает кино как современное чудо — одно из немногих средств, способных вдохнуть жизнь в расколдованный мир, связывая нас в невидимые сообщества.
Парадокс возникает уже в самом начале, когда мы только пытаемся задаться вопросом о природе кинематографического образа. О том, какова его специфика и как возможно его описать, разграничив с многочисленными другими образами современного мира. Парадокс этот можно сформулировать так: в момент, когда мы смотрим фильм — следим за изображением, рассказываемой историей, режиссерскими находками, — образы, которые предстают нам как зримые, могут быть названы кинематографическими лишь условно. Они принадлежат или живописи, или театру, или литературе, но в чем, собственно, состоит специфика кинообраза, рожденного в результате приведения изображения в движение, остается не совсем ясным. Могут сказать, что спецификой кинематографа (и, как следствие, его образности) являются такие элементы, как монтаж или крупный план… Однако эти аргументы вряд ли можно принимать в расчет, поскольку уже самый первый фильм, от которого кинематограф отсчитывает свою историю, не содержал ни того, ни другого, как и многого из того, с чем порой теоретики связывают природу или даже сущность кино. Это было статичное изображение среднего плана. И так были сняты практически все фильмы братьев Люмьер. Все, что в них было, — движение. Впрочем, не только.
Приведенное в движение изображение не несло в себе ничего удивительного. Ко времени изобретения кинематографа было придумано немало оптических аппаратов, где в той или иной форме уже было то движение картинки, из которого мы обычно исходим, говоря о кинематографе. Представляется неслучайным, что и саму историю кино мы отсчитываем не от изобретения киноаппарата, а от первого киносеанса, овеянного легендами, от того шумного массового успеха простейшего и банального зрелища, от нескольких минут статичного плана, зафиксировавшего прибытие поезда на вокзал Ла Сиота. Возможно, что этот «успех первого фильма» имеет большее отношение к природе кинематографа, нежели сам факт оживления картинки. Помимо внимания к характерному фильмическому изображению, он включает в себя также и изменение самого типа зрительского восприятия, в результате чего совершается естественная редукция очень быстро архаизирующихся видимых образов фильма и открывается область иных образов, где фильм по-прежнему остается действующим, то есть несет в себе ту кинематографическую остаточную материю, в которой существенным является даже не столько общность восприятия, сколько сами образы общности, или, другими словами, коммуникативные образы, находящиеся за рамками репрезентации.
«Представляется неслучайным, что и саму историю кино мы отсчитываем не от изобретения киноаппарата, а от первого киносеанса, овеянного легендами, от того шумного массового успеха простейшего и банального зрелища. Возможно, что этот «успех первого фильма» имеет большее отношение к природе кинематографа, нежели сам факт оживления картинки»На наличие этой иной образности, которая остается, если мы выносим за скобки все образы-изображения, указывает уже само начало кинематографа, который «родился» именно 28 декабря 1895 года, на первом коллективном просмотре, организованном братьями Люмьер, а не тогда, когда фотография впервые была приведена в движение, и даже не тогда, когда братья Люмьер запатентовали киноаппарат как устройство, совмещающее движение изображения, зафиксированного на пленке, с проекцией на экран. Сам подобный оптический эффект был уже достаточно хорошо известен и до 1895 года, реализованный Эдисоном за несколько лет до сеанса братьев Люмьер. Единственное отличие состояло в том, что Эдисон сделал оптическую игрушку для глаз одного зрителя, в то время как Люмьеры, спроецировав изображение на экран, сразу же поймали некий коллективный эффект данного зрелища. Но, чтобы обнаружить особую коллективную аттракцию движения, все равно нужен был «успех» первого киносеанса. Затем, на протяжении многих лет, теоретики интерпретировали кинематографическое движение в координатах индивидуального восприятия, что продолжают делать и по сей день. Но даже те, кто заговорил о принципиальном массовом характере кино (здесь можно назвать и Кракауэра, и Беньямина, и Эйзенштейна), скорее постулировали эту массовость, чем ее анализировали. Тем не менее, когда Эйзенштейн пытается понять силу воздействия кинообраза, то он проходит путь от прямого психологического воздействия («Монтаж киноаттракционов») к неким глубинным архетипическим структурам бессознательного, общим для каждого, структурам, находящимся вне прямой видимости, вне того, что зримо, — в неком архаическом остатке нашего мышления («Метод»). На другом полюсе от эйзенштейновской психоаналитической онтологизации архаического располагается беньяминовская политизированная коллективность, которая имеет дело не с архетипами, а со штампами деауратизированного массового производства. И в том и в другом случае мы сталкиваемся не с индивидуальным опытом восприятия, но уже с иным, находящимся за его пределами, с опытом, отсылающим нас к самим условиям восприятия, где господствуют либо устойчивые архетипы, либо динамически сменяющие друг друга стереотипы. В этих принципиально не сводимых друг к другу концепциях общее то, что и восприятия и мышление здесь не перестают быть индивидуальными, а только обнаруживают огромную зависимость от тех сил, что остаются невоспринимаемыми в самом восприятии и немыслимыми в самой мысли. Это по-прежнему связывает нас с традицией внутреннего обоснования и понимания восприятия и мышления. Между тем, даже из приведенного примера с первым киносеансом можно сделать заключение о другой логической возможности, о разрыве принципиальной связи между чувственным восприятием и тем состоянием, в котором мы пребываем во время просмотра кинофильма. То же можно сказать и о мышлении, которое словно перестает быть «моим», поскольку движение видимых образов оказывается интенсивней нашей способности к мысли.
Возвращаясь к постоянно вытесняемому историей и мифологией кино разрыву между Эдисоном и Люмьерами, можно сказать следующее. В аппарате Эдисона была явлена сила человеческой мысли, создающая оптическую иллюзию, фокус разума, конкурирующий с чудом воскрешения мертвой материи. В каком-то смысле, зритель здесь принужден быть заодно с создателем, автором технического изобретения, вынужден подчиниться его воле и замыслу. Кинопроекция Люмьеров обнажила в первую очередь культовый и архаический момент зрелища, в котором общность важнее представления. (Кстати, сколько бы историки ни разоблачали миф о коллективном зрительском шоке при просмотре «Прибытия поезда», показательна уже сама эта мифология.) Все последующие попытки интерпретировать кино как еще одно искусство были направлены как раз на то, чтобы вернуть зрителя из этой регрессивной общности к субъективности личного, индивидуального восприятия. Однако акцент на способности переживать и осмыслять фильм как произведение стирает сферу экстатической (неиндивидуальной) аффективности кинематографического образа, приводит к постоянной реанимации различий между высоким и низким, прекрасным и безобразным, истиной и ложью, что закрывает путь к невыразительному, к банальному, ставшему видимым, к тому, что составляло неотъемлемую часть фильмов Люмьер и что не только не противостояло успеху этих фильмов, но, скорее всего, было его условием.
«В каком-то смысле, зритель принужден быть заодно с создателем, автором технического изобретения, вынужден подчиниться его воле и замыслу. Кинопроекция Люмьеров обнажила в первую очередь культовый и архаический момент зрелища, в котором общность важнее представления»Многочисленные клише, которыми сегодня питается киноиндустрия, имеют лишь косвенное отношение к тому невыразительному, что лежало у истоков кинематографического образа.
Возможно, что и нет никакого единого специфически кинематографического образа, а все, что кинематограф делает самим фактом своего существования, «деградируя» или «развиваясь», просто меняет наше отношение к образу как таковому. И клише оказываются интересны именно тем, что указывают не только на свои формальные характеристики, на приемы по захвату зрительского внимания, но, что не менее важно, и на собственный исток — экстатическую общность-в-образе. В образе не для общества и не для людей, а в образе, в котором общность обнаруживает себя почти механически, подобно тому как она обнаруживает себя в архаическом ритуале.
Когда мы пытаемся найти кинематографическую специфику в аффектах общности, то фактически принуждаем себя идти от изображения туда, где образ и изображение расходятся. Следуя по этому пути, приходится постоянно удерживать внимание на различии между изобразительным и неизобразительным (невыразительным). Последнее как раз и есть область настоящего эксперимента, который кинематограф производит с нашим восприятием, реабилитируя те силы банального, не замечаемого нами в повседневности, от которых уклоняется взгляд, но которые открывают целый мир микроощущений и микродействий, предшествующих интерпретациям слова и взгляда.
Вопрос состоит в том, как говорить об этой банальности, — настолько банальной, что она практически уклоняется от нашего взгляда, но при этом с какой-то неумолимой очевидностью является необходимой характеристикой кинематографического образа.
Вот здесь и оказывается крайне продуктивна теологическая аналитика, которая как раз была посвящена анализу вещей либо недоступных восприятию (Бог), либо его изменяющих (чудо). Христианская теология, постоянно имеющая дело не просто с описанием трансцендентного, но создающая целый инструментарий, чтобы показать присутствие Бога в мире, фактически имеет дело с миром тех образов, которые внеположны индивидуальному восприятию и, более того, — указывают на его ограниченность. Откровение и чудо относятся именно к таким образам.
И, чтобы максимально приблизиться к коммуникативному кинематографическому образу, зададимся сначала вопросом о том, что есть чудо как образ. Сразу оговоримся, что мы не будем понимать чудо как нечто, что привнесено в мир извне (необъяснимыми силами трансценденции), хотя это и противоречит многим теологическим интерпретациям. Мы также не будем считать чудо обычным фокусом и относиться к нему рационалистически, полагая, что для всех чудес можно найти объяснения с точки зрения здравого смысла. Кроме того, чудо, как это уже стало ясным, не будет для нас и метафорой, когда само это слово оказывается легко приложимо как к новейшим техническим изобретениям, так и к особенно затронувшим нас произведениям искусства, а также непонятным явлениям природы.
«Когда мы пытаемся найти кинематографическую специфику в аффектах общности, то фактически принуждаем себя идти от изображения туда, где образ и изображение расходятся. Следуя по этому пути, приходится постоянно удерживать внимание на различии между изобразительным и неизобразительным»Мы исходим из того — и это, кстати, нисколько не противоречит христианству, — что чудо — в мире и принадлежит этому миру. Только в христианской догматике чудо диалектически связано с откровением, является необходимым условием веры, но и не существует без веры. Попробуем, однако, сделать акцент не на связи откровения и чуда, а на их различии. Заметим, что те материальные чудеса, которые совершает Иисус, в некотором роде бессмысленны. Они словно нужны для привлечения внимания тех, кто не может (да и не должен) понимать речи, притчи, проповеди. Видение и понимание здесь идет мимо знания, утверждающего, что нечто невозможно или что нечто противоречит букве закона.
«Блаженны очи, что видят и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали» (Мф 13:16-17). Итак, в чудесах, творимых Иисусом, Бог обращается не к пророкам, а к обыкновенным людям, не знающим толк в мудрости Торы, не готовым к откровению, а возможно, даже и к вере. Иисус обращается к профанному миру повседневного существования простых людей, наполняя его неожиданным содержанием. Собственно, чудеса и позволяют открыть содержание повседневности для каждого.
В теологии то, что мы противопоставляем как оригинальное и банальное, присутствует в неявной, но очень значимой оппозиции «откровения» и «чуда». Откровение — то, что дано пророку как его способность к индивидуальному посредничеству с Богом. В то время как чудо — образ, который принадлежит миру и достигает каждого, объединяя людей в экстатическом радостном изумлении. Именно в этот момент несведущим открывается то, что сокрыто для мудрых.

Дэвид Юм Шотландский философ XVIII века, экономист историк и публицист, один из крупнейших деятелей шотландского Просвещения. Юм был предшественником позитивизма, представителем агностицизма и эмпиризма, большое влияние на которого оказали идеи Джона Локка и Джорджа Беркли.

Амедео Эфр Французский аббат-синефил, теолог и педагог, автор книги «Кино и христанская религия». Исследователь проблемы воплощения христианских идей в кино, представитель феноменолого-персоналистской кинотеории. Описывал кинематограф как феномен, объединяющий социальную, художественную и духовную сферы.

Анри Бергсон Один из крупнейших философов XX века, представитель интуитивизма и философии жизни, повлиявший на таких мыслителей, как Жиль Делез и Жильбер Симондон. Его модель описания мира, предложенная в книге «Материя и память», легла в основу двухтомника Делеза «Кино».
Итак, чудо в каком-то смысле даже противостоит откровению. Через откровение обретается вера, происходит непосредственный контакт с трансценденцией. Что же касается чуда, то оно предстает абсолютно материальным и предполагает не присутствие трансценденции «здесь и сейчас» и важность такового, а некое сообщество свидетелей чуда, свидетелей того, что кажется невозможным. Не случайно, что с чудесами по-настоящему мы имеем дело только в Новом Завете, где, в отличие от ветхозаветных чудес-откровений, творимых Богом, их совершает Иисус-человек. Иисус открывает своими чудесами простоту и банальность того, что казалось невозможным, что противоречило самому «закону природы». По сравнению с ветхозаветными, чудеса Иисуса могут показаться почти что проделками фокусника или шарлатана. И для мудрецов и пророков это так и должно выглядеть. Но в том и сила Иисуса, что он обратился к людям, минуя тех, кто монополизировал мудрость и слово Божие, — минуя книжников и фарисеев. Язык чудес, использованный Иисусом, был в своем роде языком-для-народа, через который возникало иное отношение и к Богу, и к вере, и к тому, как толковать Ветхий завет.
«В теологии то, что мы противопоставляем как оригинальное и банальное, присутствует в неявной, но очень значимой оппозиции «откровения» и «чуда». Откровение — то, что дано пророку как его способность к индивидуальному посредничеству с Богом. В то время как чудо — образ, который принадлежит миру и достигает каждого, объединяя людей в экстатическом радостном изумлении»Язык чудес — это язык, исходящий из потребностей тех, кто не наделен знанием или властью, тех, кто лишен мудрости и пророческого дара. Это именно язык для несведущих, в котором присутствует, говоря словами Карла Барта, «торжество и радость», «поддержка и исцеление». Можно даже полагать, что в этом языке чудес материализуются неиндивидуальные желания, те токи жизни, которые прорываются за рамки указующей и карающей буквы закона.
Чудо вторгается в причинно-следственные связи, которые кажутся нам устоявшимися, но таковыми не являются, и разрывает их. Для Юма, например, вообще не было проблемы чуда, поскольку связь причины и следствия интерпретировалась им как привычка, а чудо представляло собой не более чем непривычное, то есть именно то, в чем и обнаруживается недостаточность логики, законодательно связывающей причину и следствие, стимул и реакцию. Чудо как образ располагается в сердцевине этих связей, представая настолько банальным, что взгляд его всегда минует. Иначе говоря, чудо — это не направление взгляда, но экстаз общности, при котором нет единого свидетеля (пророка). Это направление не может быть выбрано индивидуально, более того, это и не направление, поскольку здесь нет ни «взгляда мудреца», раскрывающего истинную природу вещей за покровами видимости, ни «взгляда пророка», идущего еще дальше, вглубь бытия нематериального мира. В чуде превалирует желание, находящее свое разрешение в моментальном образе, чье действие порождает аффективную ситуацию — «соприкосновением тел», делающим их воспринимающими, мыслящими и верящими.
Кинематографический образ располагается в максимальной близости к тому, что мы называем «чудом» и что таит в себе угрозу разоблачения самых разных претензий на Истину, а потому постоянно оттесняется в сторону либо художественными откровениями авторов, либо прагматической мудростью индустрии.
Но если мы начинаем сопротивляться искусству и деньгам, то открывается иная история кино и иная история кинематографического образа. Эта история — не история достижений, не история фильмов, режиссеров, направлений, а история ошибок, событий и встреч, в которых кинематографический образ неожиданно обнаруживает себя в самом непритязательном и непривлекательном месте, там, где, кажется, уже нет никаких зрителей, а остается лишь никем не востребованное изображение (изображение, которому отказано в праве быть изображением). Вот точка, откуда начинается иное измерение образа. Об этом первом шаге в направлении чуда — фильм Тима Бертона «Эд Вуд» (1994). Он рассказывает историю реального голливудского режиссера-неудачника, снявшего несколько дешевых трэш-фильмов. Главный герой фильма Эд Вуд (Джонни Депп) — с одной стороны, типичный заложник жанровых стереотипов. С другой — им движет не желание прославиться, но настоящая кинематографическая страсть, некое «абсолютное» чувство кинематографа, делающего его порой настоящим экспериментатором. Он ограничен в средствах, у него мало пленки, дешевые актеры, минимум реквизита и сжатые сроки. Все это заставляет его проявлять изобретательность не только на съемочной площадке, но и в жизни, постоянно переплетающейся с кино, являющейся его своеобразным продолжением. В фильме есть показательный трагикомический момент. Эд Вуд приглашает в свой фильм Белу Лугоши, некогда знаменитого, но всеми забытого классического исполнителя роли Дракулы, и он умирает как раз во время съемок. Эд Вуд вынужден доснимать сцены с только что умершим Лугоши, как если бы тот был живым. Мы словно присутствуем при двойном воскрешении Лазаря. Но, что важно, именно этот «худший из всех режиссеров» сначала вернул радость существования обездоленному актеру, а затем реанимирует его с помощью технологии кино буквально, преодолевая даже физическую смерть. Эффект чуда усиливается еще больше, когда многократно прокручиваются последние кадры с еще живым Лугоши, в которых нет ничего особенного, кроме того, что он двигается. И это невыразительное движение старого и больного человека оказывается значимей всех эффектных приемов и зрелищных кадров, на которые ловится публика. Черно-белый «Эд Вуд», выполненный в характерной для Бертона манере, совмещающей мрачный стиль film noir и эстетику комиксов, Дика Трэйси и Бэтмена, дополнительно подчеркивает парадоксальность кинематографического чуда. Одиночество и немощь автора фильма перед неприметным событием воскрешения обнажает кинематографический образ, оставляя в стороне все формальные достижения фильмов.
«Язык чудес — это язык, исходящий из потребностей тех, кто не наделен знанием или властью, тех, кто лишен мудрости и пророческого дара. Это именно язык для несведуших, в котором присутствует, говоря словами Карла Барта, «торжество и радость», «поддержка и исцеление»»Мы не знаем, что произошло с Лазарем, нам известны лишь свидетельства о его воскрешении. Мы не знаем, достоверны ли эти свидетельства, но они многочисленны. Так и современный зритель, смотря кино, становится экстатическим свидетелем недостоверного чуда. Но чуду и не нужна достоверность: ему нужен экстаз, общность в свидетельстве того, для чего не бывает одного свидетеля. Именно в экстатическом состоянии, выходя за рамки собственного «я», своего восприятия и мышления, и входя в пространство открытости простым и примитивным образам, мы оказываемся причастны чуду. Чудо открывает нам неизобразительное и невыразительное как те силы, в которых нет намека на господство, на давление ценностей знания и закона. Чудо открывает торжество жизни.
Трансценденция, напротив, отсылает нас к неизобразимому, к тому, что располагается за пределами любого возможного изображения. Когда аббат Эфр задавался вопросом о возможности кинематографа дать ощущение присутствия божества, то речь шла именно об откровении. Тот стиль, который аббат Эфр назвал трансцендентным и который он усматривал, прежде всего, в кинематографе Карла-Теодора Дрейера и Робера Брессона, стремится к такой минимизации изобразительных средств, что сама нищета изображения оказывается говорящей. Зритель здесь проходит путь аскезы, научаясь видеть «мимо» изображения, но и «мимо» образа. Так, в фильме Дрейера «Слово» (1954) есть сцена с воскрешением умершего. Но здесь, в отличие от бертоновского фильма, воскрешение постоянно подготавливается. Взгляд зрителя словно проходит практику обучения странному замедленному движению, обитанию в особом светоносном пространстве, где постепенно уходит память об обыденной реальности, и мы плавно, вслед за персонажами, переходим в реальность духовную. В этом пространстве воскрешение предстает не как чудо, а как нечто естественное, хотя и неизобразимое и невообразимое. Эта естественность не предполагает никаких свидетелей, поскольку в образе воскрешения находит свое воплощение сам Бог. В фильмах подобных «Слову», достигающих религиозной чистоты и литургичности, сакральное обнаруживается на исходе самой материальности образа. Однако даже там мы вправе говорить о кинематографическом воплощении, подразумевающем некоторый ритуал. Ведь когда и Эли Фор, и Амедео Эфр пишут о литургических истоках кинематографа, то за этим слышится credo ecclesiam, предполагается «сообщество верующих», которое, до того как стать церковью, является сообществом свидетелей чуда. И первыми были апостолы (буквально — свидетели воскресения Христа).
«Кинематографический образ располагается в максимальной близости к тому, что мы называем «чудом» и что таит в себе угрозу разоблачения самых разных претензий на Истину, а потому постоянно оттесняется в сторону либо художественными откровениями авторов, либо прагматической мудростью индустрии»Вернемся к тому противопоставлению оригинального и банального, о котором ранее шла речь. Рассмотрим два типа взгляда. То, что называется в культуре оригинальным, уже в самом этом именовании указывает на некоторую ценность, связанную и с причастностью «новому», и с принадлежностью к «истоку». Взгляд, отмеченный оригинальностью (авторский и новаторский), всегда отсылает нас к избытку зрения или к некоему «знающему» или даже «пророческому» зрению, позволяющему смотреть вглубь объекта, видя в нем то, что не замечают другие, либо смотреть, выбирая объект среди прочих, то есть обладая некоторой привилегией в распознавании ценности — «мудростью» или хотя бы «вкусом». Другой же взгляд, в отличие от первого, представляющего собой активный и властный тип восприятия, связан скорее со сферой «слабой» аффективности. Здесь восприятие рассеянно, не сконцентрировано — его даже вряд ли можно назвать в полной мере «нашим» восприятием, поскольку мы в этот момент находимся в некотором режиме «общего чувства», того, что Кант называет sensus communis и что является для него одним из условий возможности суждения, а фактически — его невозможности, антиномичности, вечной отложенности. Это не просто сфера расхожих сюжетов, плоских изображений, опознаваемых нами в качестве вульгарных стереотипов, но то, что отсылает нас к парадоксальному «истоку клише», невозможному месту-образу, из которого стереотипы возникают. Это зона действия иных сил, нежели те силы господства и потребления, которые используют клише в практических целях и которыми движет только успех. (И это уже не тот упоминавшийся люмьеровский «успех», понимаемый как событие, в котором sensus communis неожиданно материализуется в образах.) В последнем случае мы имеем дело либо с признанием (авторства и оригинальности), либо с коммерческой эффективностью, когда кино торжествует как хорошо работающая социальная технология.
«Но если мы начинаем сопротивляться искусству и деньгам, то открывается иная история кино и иная история кинематографического образа. Эта история — не история достижений, не история фильмов, режиссеров, направлений, а история ошибок, событий и встреч, в которых кинематографический образ неожиданно обнаруживает себя в самом непритязательном и непривлекательном месте»Итак, чудо предполагает иной «успех», который ведет нас не в кабинет продюсера, подсчитывающего убытки или дивиденды от фильма, а в темноту кинозала, в пространство совместности восприятий, где коммуницируют не столько взгляд и световые экранные образы, сколько тела реагирующие и пассивные, присутствующие и отсутствующие. Сегодня темный зал, куда попадает зритель, — место трансформации его чувственности. Он предполагает невидимую, погруженную во тьму общность. Более того, этот эффект уже настолько сильно связан с движущимся изображением, что о нем можно говорить даже в том случае, когда мы садимся перед телевизором и в полном одиночестве просматриваем видеокассету. Общность, рожденная в аффективном опыте коллективного просмотра, похоже, навсегда соединилась с киноизображением. Собственно, этот опыт общности и лежит в самом основании кинематографической практики, а не является ее целью. Это — сила жизни, порождающая технологию, а не культурный или социальный эффект.
Источник: theoryandpractice.ru
Портал БАШНЯ. Копирование, Перепечатка возможна при указании активной ссылки на данную страницу.