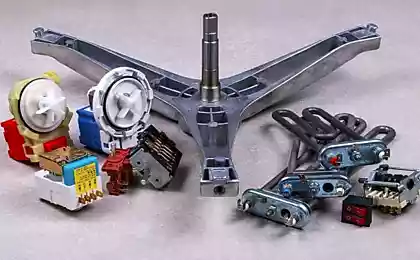555
0.1
2016-09-20
Писательский ступор: где искать слова, если их нет

© Isidro Ferrer
Каждый второй писатель скажет, что самое сложное в его профессии — не война с издательствами, не обязанность угодить вкусам аудитории и даже не изнурительная правка собственных опусов. Самое сложное — это часами смотреть на белый лист и осознавать свою неспособность заполнить его словами.
Первым, кто описал писательский ступор как особое состояние, был американский психоаналитик австрийского происхождения Эдмунд Берглер в 1947 году. Последователь фрейдистской теории, Берглер объяснял феномен «писательского блока» склонностью человека к мазохизму и потребностью Сверх-Я в наказании, презрительно отметая, казалось бы, очевидные предпосылки вроде нервного перенапряжения или недостаточно развитой фантазии.
Впоследствии эта проблема из психоаналитики перекочевала в педагогику. Профессор Калифорнийского университета Майк Роуз определяет творческий кризис писателя как «неспособность начать или продолжить писать что-либо по причинам, иным, нежели нехватка базовых навыков или отсутствие вовлеченности в процесс». Таким образом, писательский ступор — не прерогатива исключительно именитых писателей, чья муза — существо капризное и непостоянное. Впасть в ступор может и романист, и сценарист, и блогер, и даже школьник, которому задали на дом сочинение на тему «Как я провел лето». В связи с этим проблема активно разрабатывается в популярной психологии: в США бестселлером стала книга Хиллари Реттиг «Семь секретов плодовитости: исчерпывающее руководство по преодолению прокрастинации, перфекционизма и писательского ступора».
«Можно выделить два основных вектора: первый — отсутствие тем, второй — отсутствие слов.»Не остались в стороне и писатели: в 2000 году Стивен Кинг выпустил своеобразную творческую автобиографию «Как писать книги: мемуары о ремесле». В ней он дал начинающим авторам немало советов о том, как перестать испытывать страх перед неизвестностью чистого листа. Кстати, острый приступ писательского ступора сам Кинг испытал не далеее, как в прошлом декабре, когда завел себе официальный твиттер — и не знал, о чем в нем писать. Скрывать этот факт от читаталей (всего за шесть часов их набралось более 80 тысяч) Кинг не стал и честно признался: «Наконец-то я в Твиттер — и не могу придумать, что сказать. Хороший же я писатель». Со временем, правда, дело пошло, и сегодня в микроблоге короля триллеров можно найти сведения о его гастрономических предпочтениях и любимых телешоу.
Существует несколько десятков разновидностей писательского ступора — в зависимости от причин его возникновения: на человеке могут сказаться и усталость, и стресс, и чрезмерная требовательность к себе, и даже биполярное расстройство. Тем не менее, можно выделить два основных вектора: первый — отсутствие тем, второй — отсутствие слов.
Иногда автор долго не может нащупать тему для очередной книги — обычно это случается с писателями, чей дебют оказался особенно громким. Когда поклонники ждут от тебя покорения новых высот, а недоброжелатели скрещивают пальцы в надежде на то, что ты не дотянешься до заданной планки, сложно справиться с напряжением и просто работать в свое удовольствие. Многих «кризис второго романа» толкает на легкий путь, и, чтобы перестраховаться, они обращаются к проблемам, которые лежат на поверхности и почти наверняка вызовут отклик в сердцах общественности. Фоер, например, не стал далеко ходить за сюжетом для «Жутко громко и запредельно близко».

Случалось, что с такой разновидностью писательского ступора сталкивались и куда более опытные авторы. В их числе — Александр Куприн, для которого эмиграция едва не обернулась полным творческим крахом: обосновавшись 1920-м году в Париже, он тосковал по России не только как по родине, но и как по источнику тем для рассказов и публицистических статей. Привыкший черпать вдохновение в русском фольклоре, русской природе, русском укладе жизни, Куприн не мог придумать, о чем ему писать в прекрасной, но чужой Франции. Поэтому его постреволюционное творчество отмечено периодом застоя, а поздние произведения Куприна перекликаются с более ранними: в частности, очерк «Светлана» (1934) как бы продолжает цикл «Листригоны», завершенный еще в 1911 году.
Плодовитый Джек Лондон, автор более двух сотен рассказов, под конец жизни впал в такой глубокий писательский ступор, что вынужден был выкупить идею для книги у Синклера Льюиса — тогда еще мало кому известного романиста. Детектив, озаглавленный «Бюро убийств», Лондон так и не закончил — не справился с лихо закрученной интригой, а потом, увы, скончался. На деньги, полученные от гуру американской приключенческой литературы, Льюис купил себе новое пальто. А в 1930 году он получил Нобелевскую премию — «За мощное и выразительное искусство повествования и за редкое умение с сатирой и юмором создавать новые типы и характеры». Джек Лондон, в свою очередь, не был удостоен этой высокой награды.
Как читатели продираются сквозь нагромождение символических образов в прозе Вирджинии Вулф, так и сама Вулф с грандиозным трудом продиралась сквозь пелену слов: они то ускользали от нее, то водопадом обрушивались на голову. Опора английского модернизма, она страдала от писательского ступора на протяжении всей жизни, и та самая «своя комната», которой, как утверждала Вулф в одноименном эссе, должна обладать каждая женщина, решившая заняться литературой, нередко становилась для нее подобием тюремной камеры.
«Лев Толстой нередко переживал писательский ступор и в своих дневниках и письмах ругал себя за то, что зря потратил очередной день, ни написав ни одной толковой строчки»Предрасположенность Вирджинии Вулф к творческому кризису объяснялась хронической депрессией, перетекшей в серьезное психическое расстройство: ей не давали покоя головные боли, видения, голоса. Склонная к навязчивым идеям, Вулф намеренно создавала себе сложные условия работы: известно, что писала она стоя. По мнению Квентина Белла, племянника Вулф, писательница делала это потому, что не хотела отставать от своей сестры Ванессы: та была художницей и обычно не сидела, а стояла перед мольбертом. Вулф считала, будто ее собственные произведения в качественном отношении смогут сравниться с безупречными произведениями сестры только в том случае, если будут создаваться в тех же условиях.
Принимая во внимание печальную историю Вирджинии Вулф, напрашивается вывод о том, что присказка «в здоровом теле — здоровый дух» актуальна и в отношении проблемы писательского ступора. К примеру, спортсмен, усач и просто красавец Артур Конан Дойл не был заложником проблемы, и неизвестно, что сыграло в этом большую роль — его природная любознательность или одержимость крикетом, горными лыжами и длительным прогулками на свежем воздухе. С другой стороны, проповедовавший здоровый образ жизни Лев Толстой нередко переживал писательский ступор и в своих дневниках и письмах ругал себя за то, что зря потратил очередной день, ни написав ни одной толковой строчки.
Следует различать авторов, подверженных писательскому ступору, и тех, для кого мучительный поиск слов становится особенностью творческой манеры. Финальный объем романа «Госпожа Бовари» составил всего 487 страниц — а Флобер бился над ними почти пять лет. Перфекционизм как свойство характера наложился на благоприятные обстоятельства: семья Флобера, отчаявшись сделать из него преуспевающего юриста, позволила ему заниматься исключительно писательским трудом. Так он получил возможность неделями работать над одной сценой, часами выжимать из себя одну строку.

Почти через сто пятьдесят лет после публикации «Госпожи Бовари», Курт Воннегут в книге «Времетрясение» разделил всех писателей на «боксеров» и «каратистов». Первые сначала пишут рассказ целиком, а потом шлифуют его, доводя до совершенства. Вторые наносят узор текста на бумагу постепенно и не переходят к следующему предложению, пока предыдущее не будет их полностью устраивать. Когда «каратисты» ставят последнюю точку, им даже не нужно заново пробегать рассказ глазами — он полностью готов и может отправляться к редактору. К писателям первого типа относились Толстой и Чехов. К писателям второго типа — уже упомянутый Флобер и сам Воннегут, который, в свою очередь, пережил довольно необычную форму творческого кризиса.
В предисловии к “Бойне номер пять” Воннегут говорит: “Ужасно неохота рассказывать вам, чего мне стоила эта треклятая книжонка — сколько денег, времени, волнений”. И это не кокетство: он потратил почти 25 лет на то, чтобы написать свой главный — в глазах потомков — роман. Во время Второй мировой войны, будучи рядовым американской армии и находясь в плену у немцев, Воннегут попал под разрушительную бомбардировку Дрездена, чудом выжил в ней и считал своим долгом рассказать всему миру о том, что ВВС США и Великобритании на его глазах совершили чудовищное, непростительное зверство, уничтожив город, который даже не являлся стратегически важным объектом.
По словам самого Воннегута, по возвращении с фронта у него было достаточно материала для книги о Дрездене. И он, по большому счету, мог не опасаться того, что американская система милитаристской пропаганды не пропустит роман с выраженной антивоенной составляющей: “Нагим и мертвым” Нормана Мейлера, “Отныне и во веки веков” Джеймса Джонса и “Приключениям Весли Джексона” Уильяма Сарояна непреодолимых препятствий никто не чинил, и они благополучно добрались до читательской аудитории. Однако по ряду причин, в числе коих была и глубокая психологическая травма, Воннегут взялся за “Бойню” только в шестидесятые. Тема Дрездена не выходила у него из головы — но на бумаге оставалась закрытой.
«Одни зацикливаются на построении сюжета, вторые — на детальной проработке характеров, третьи — на синтаксисе»“Дрезденский ступор” напал на Воннегута из-за груза колоссальной ответственности: писатель понимал, что его опыт — уникален, и вероятность того, что существует еще один уцелевший в бомбардировке американец, способный написать об этом книгу, ничтожна. Значит, спрос с него будет огромен, ведь для аудитории он станет едва ли не единственным источником информации о трагедии. Совет, который Воннегут, преподавая в Университете Айовы писательское мастерство, часто давал своим студентам — “пишите только о том, что вас действительно волнует”, — для него самого обернулся многолетним застоем. Как ни странно, это ничуть не мешало ему работать над другими книгами: до “Бойни” Воннегут опубликовал пять романов и два сборника рассказов.
Следует также учитывать, что писательский ступор не тождественен творческому кризису: последний не всегда предполагает бессонные ночи перед бледно мерцающим экраном монитора. Ну, или перед девственно-чистым листом бумаги. Прежде, чем сжечь второй том “Мертвых душ”, Гоголь его, так или иначе, написал. Для Лермонтова творческий кризис обернулся полным переосмыслением романтических иллюзий — и это выразилось в фривольных “юнкерских поэмах”. Жизнь Кафки вообще была сплошным творческим кризисом, совпадавшим с перманентным кризисом личностным. Но, какого бы плохого мнения он ни был о своих романах, мы — стараниями Макса Брода — благополучно читаем их сегодня.

Тем не менее, предлагаемые психологами методы борьбы с творческим кризисом и писательским ступором, в общем-то, схожи. Сводятся они в основном к совету сменить обстановку: новые места и новые люди принесут новые впечатления. Педагоги более точны в своих рекомендациях. Уже упоминавшийся Майк Роуз считает, что утрата способности писать зачастую возникает потому, что у писателя в голове есть стереотипический свод правил, как нужно работать над произведением. Одни зацикливаются на построении сюжета, вторые — на детальной проработке характеров, третьи — на синтаксисе.
По мнению Роуза, автор должен не полагаться на абстрактные представления о том, как должно писать, а вдумчиво разобраться в разных стратегиях работы над текстом и выбрать ту, которая подходит именно ему. Или, возможно, найти собственную. Тогда проблема если и не исчезнет, то наверняка будет возникать гораздо реже, ведь загвоздка может заключаться не только в отсутствии идей или слов, но и банально в неудобной ручке, неподходящем оттенке бумаги, неграмотно организованном рабочем пространстве или непонимании собственных биоритмов. Набоков, например, писал на каталожных карточках, а для Леонида Андреева самым продуктивным временем суток была глубокая ночь.
Естественно, наиболее ценным подспорьем в схватке писательским ступором станет опыт тех, кто неоднократно его переживал — и самостоятельно научился с ним справляться. При этом кажется, будто представления писателей о том, как победить творческий кризис, должны быть исключительно одухотворенными и строиться вокруг манких понятий “творчество”, “призвание” и “вдохновение”. Но на самом деле любимые авторы куда более прагматичны, чем нам хотелось бы думать.
«Писательский ступор — не приговор, а всего лишь издержка профессии»Марк Твен утверждал, что любую деятельность — в том числе и литературную — необходимо жестко систематизировать, разбивая глобальную цель — замысел романа — на мелкие задания и скрупулезно выполняя их одно за другим. Эрнест Хемингуэй советовал прекращать думать о будущей книге ровно в тот момент, когда ты откладываешь ручку и идешь заниматься другими делами: иначе можно до такой степени изнурить себя идеями, что на следующий день уже не останется сил на то, чтобы их записать. Норман Мейлер придерживался прямо противоположной точки зрения, уверяя, что, если ты с вечера решил, что утром сядешь за стол, твому подсознанию автоматически посылается соответствующий запрос, и оно, независимо от тебя, само начинает формулировать мысли, которые завтра бурным потоком прольются на бумагу. Джон Стейнбек предлагал представить, что ты не готовишь роман для читателя или для издателя, а просто собираешься рассказать историю кому-то из своих близких — сестре или лучшему другу.
Впрочем, лучше всех на тему писательского ступора высказался американский сценарист Уильям Голдман, один из создателей “Степфордских жен” и “Мэверика”: “Самое простое занятие на этой планете — вообще не писать”. В конце концов, никому из перечисленных выше авторов периоды творческого застоя не помешали оставить обширное литературное наследие. Писательский ступор — не приговор, а всего лишь издержка профессии.опубликовано
Источник: theoryandpractice.ru
Портал БАШНЯ. Копирование, Перепечатка возможна при указании активной ссылки на данную страницу.