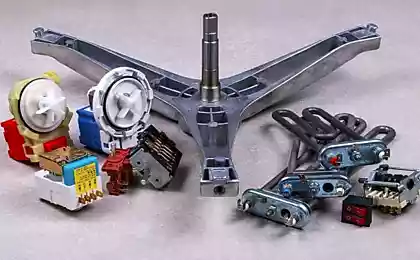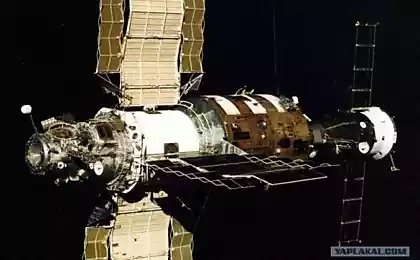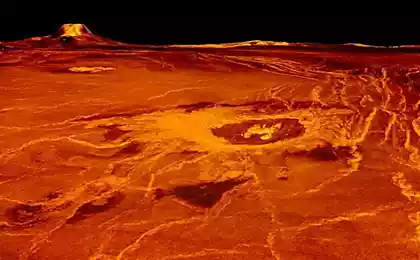700
0.2
2015-07-04
Подо мной шевелилась земля
Подо мной шевелилась земля
Весной Ирине Ефимовне Суворовой выпало счастье. Дом, в котором бывшая медсестра железнодорожного санатория станции Сергач живет с 1978 года, обзавелся новой крышей. Теперь он самый заметный на Ленинской улице. Домик Суворовой до сих пор выглядит нарядно, словно школьник на первое сентября. Ремонт был произведен силами Горьковской железной дороги по программе улучшения жилищных условий железнодорожников — участников и ветеранов войны.
И хотя тому минул уже почти год, Ирине Ефимовна все не может успокоиться. Чуть что, счастье свое вспоминает. И тут же начинает благодарить. Женщина составила обстоятельный список с фамилиями «виновных» в новой крыше. Здесь все: от Господа Бога до начальника Горьковской дороги Лесуна, который лично поздравлял Суворову с Днем Победы.
Памяти этой женщины можно позавидовать. Она с пугающей ясностью помнит подробности трех четвертей пережитого ею века. Например, первые сорок минут нашей встречи она рассказывала, как ездила навещать сына-срочника 3 октября 1977 года. И какие узоры были на полотенчиках в солдатской столовой. И как они с дочерью мыли кружки. И какие гостинцы с собой привезли — угощать сослуживцев сына. И о том, как другие «сильно умные» родители пытались пронести на территория части водку в целлофановом пакете тайком от бдительный проверяющих, да не вышло…
Но когда Ирина Ефимовна вспоминает рецепт отвара их еловых иголок, ольховых сережек и рассказывает, как правильно надо сосать березовый лист, чтобы выжить в Бухенвальде, вот тогда прирастаешь к стулу и перестаешь понимать, почему за окном так мирно идет снег, а фонари у Дома культуры безмятежно плавают в сумерках и не гаснут.
[next]
В августе 1941 года ей исполнилось двенадцать лет. Тогда она жила с мамой и сестрой в Белоруссии, в Речицком районе Гомельской области. Старший брат — на Дальнем Востоке, старшая сестра — во Львове. Трудно представить себе, что первых немцев она увидела лишь весной 42-го. До тех пор в деревне Кузьмино они не появлялись. Необходимости не было, а осенью и весной кузьминцы жили как на острове, отрезанные от внешнего мира разливавшимися притоками Днепра и Березины. Летом через болота не каждый проедет, а зимой снег по пояс. Народ попрятал лодки, порезал всех собак, чтоб не шумели, и жил слухами. Немцы палили в округе деревни вместе с жителями, травили и сжигали колодцы. Наконец, в мае добрались и до Кузьмина.
— Зашли в дом два офицера, походили по комнатам, на нас с сестрой внимания не обратили, — говорит Ирина Ефимовна. — Думали своему начальству квартиру найти, только дом был маловат.
— Как вы это поняли?
— Немецкий знала.
— Откуда?
В селе у нас двое мужиков вернулись из германского плена после первой войны с женами-немками, и дети их на языке говорили. В школе у нас немецкий еврейка преподавала. Я легко выучилась… И вот те ушли, и вслед повалил немец. Шарили по домам, все забрали, даже белье. Скотину порезали и уехали — тишина…
Наш председатель сказал, что пора и нам в лес. И стали мы уходить. Председатель — командиром партизанского отряда. А наш Кербицкий лес знаете какой? Здесь войдешь — только в Воронеже выйдешь. Детей председателя предатель выдал, их расстреляли перед воротами, жена с ума сошла, бродила по улицам и выла, а он сам в деревню вернулся и там погиб. Хороший был человек. Нас ведь отец бросил, дом продал, на Урал укатил «двадцатипятитысячником» колхозы организовывать, а председатель нам новый дом построил…
И я была в партизанах. Ходила в разведку. Одевалась нищенкой — и по сёлам за милостыней. Бывало, неделями из села в село, и в Холмичи, и в Речицы, и в Брагино. И даже на Украину. Мальчишечку со мной отпускали, только имени его я не знала. Мы на хлеб просили и кругом смотрели и слушали, где да как немец устраивался, каким числом и как лучше к нему подойти. Ночевали по лесам, на точках партизанских, в шалашиках. А в Хомичах и других городах были у нас квартиры, где связные. Мы никогда ничего не записывали, все только на память. После нас и мосты подрывали, и поезда под откос пускали…
Много чего видела. За Холмичами в пяти километрах — овраг. Мы раз туда шли через него, а обратно — ничего не пойму, не узнаю места. Нет оврага. Одно поле. Пошли, а под нами земля колышется. Я и говорю — землетрясение! В один дух до лесу добежали, страшно, сердце колотится. Но куда овраг-то делся?! Командиру рассказываем, а он:
— Эх, ребятки, в том овраге евреев живьем немцы закопали. И оттого земля шевелилась и овраг в поле превратился.
Мне водки предлагали выпить, чтоб в себя прийти, а я не стала. Три дня есть не могла…
А потом меня послали на Украину. Из двух сел успела я сведения передать, а в третьем попала в облаву. И не вырвешься, с собаками вели нас до самого Луцка, а там погрузили в вагоны и повезли в Германию. Всех евреев еще по дороге где-то в Польше высадили. А остальных в Бухенвальд.
Дети жили в отдельных бараках. Каждое утро тех, кто сам на ноги встать не мог, на тележке увозили и сжигали. Но мы там одного еврейчика спасали. Он сам из немецких был, как к нам попал, непонятно. И чтоб про него надзирательницы не догадались, мы ему голову мыли отваром из березовых листьев. Тогда он из черноволосого пегим становился.
Барак возле леса стоял, а лес мне как дом родной. Я травы разные соберу — медуницу, тысячелистник, с ольхи сережек, иголок еловых, заварю, и мы пьем. Тем и желудки свои спасали, так и выжили.
Я отчего-то верила, что живой останусь. Там таких, как я, здоровеньких, двенадцать человек было. Номеров на руки нам не ставили, кровь забирали для своих солдат, граммов по двести, сладкой водой поили. Я верила, что выживу. А потом бомбежки начались. И как-то утром, уже в апреле 45-го, надзирательницы сами нас отпустили. Сказали: идите куда хотите. Так и идти никто уже не мог — поползли в разные стороны, как тараканчики.
Я увидела на горе хозяйство, в сарае в стог сена заползла и смотрю — собака. Учуяла меня, подошла и села. Не такая, как у нас в лагере: не кидалась, а охраняла, чтоб я не вышла. А в сумерках хозяин вернулся, немец. Я думала, он меня сдаст, а он пиджачок свой в клеточку накинул на меня и в дом повел. Там хозяйке говорит, вот, мол, тебе девчонку привел оттуда. Она спросила, не видел ли кто. Никто. Он велел воды нагреть и помыть меня. Она меня в корыто усадила, моет, а сама плачет:
— Боже мой, что они наделали, боязно дотронуться!
Я же как спичка, на мне все ее платья как на кол надетые.
— Хлеба много ей не давай, — сказал хозяин, — а то умрет. Дай ей огурцов и капусты чуть-чуть.
Я у них прожила недолго, хозяин отвел меня в город Петцник, а там наши собирали всех выживших. Нас погрузили на машины и повезли в Бреслау, там справки наводили, искали родственников, опять сортировали и на поезде — домой.
В Раве-Русской упросила меня с поезда ссадить, я же знала свой адрес и собиралась пешком домой идти. А полковник-медик, начальник поезда, мне говорит:
— Мы тебя оставим, только ты, девонька, никому не рассказывай, что в партизанах ходила. Кругом бандеры, узнают — вмиг убьют.
Так дошла я до Луцка, а там знакомую встретила и через нее узнала адрес почты во Львове, где моя средняя сестра работала. И к ней пошла. А она меня не узнала сразу, ей же сказали, что меня расстреляли. Все мои тогда жили у станции, где старшая сестра работал, в железнодорожных домах. И вот мы приходим, сестра спит, мама белье стирает, меня в сенях оставили, и я слышу их разговор:
— Мам, ты в церковь ходишь, как ты Иринку поминаешь?
— За здравие, — мама отвечает. — Я ее даже во сне мертвой не видела. И сон на днях был: три гусыни летят, и одна пошла низко-низко и ко мне подходит. Я тут проснулась…
— Подожди, мам, — сестра говорит, — вот капель выпей… Жива наша Иринка…
И двери открывает. Я с порога:
— Мама!
А она:
— Вот она, гусыня моя пришла! — и в обморок.
И выходили меня, и выкормили. Работать пошла санитаркой в инфекционную клинику, школу окончила, лаборанткой была в мединституте. И никому-никому не рассказывала, что партизанкой ходила в разведку. Даже мужу своему первые десять лет ни слова.
Он во Львове пожарное училище окончил, мы с ним в инфекционной познакомились. В 56-ом его распределили в Арзамас, а потом в Сергач. И он до полковника здесь дорос. Я за ним сюда. В линейной больнице работала, фельдшером по разъездам моталась, а в 79-м перешла в санаторий «Серебряные Ключи». Нам уже год как этот дом дали, но здесь такие соседи жили, скажу я вам, а муж мой ругаться с начальством не умел…
И еще час в тех же интонациях и подробностях я слушал историю о новой квартире, пересказ писем старшего сына со службы, подробности того, как мух строил новую пожарку, как болел и неожиданно умер, о чем говорил за три дня и за несколько часов до смерти, о дочкиных неурядицах, о внучке и рецептах от детской простуды. И, конечно же, о новой чудесной крыше. И раз двадцать посмотрел на потолок с темными полосами от бывших потеков. Потолок больше не течет.
А за окном все так же шел снег, и город Сергач лежал на самом дне зимних сумерек. Со дна светились окна домов. Во всех кафе гуляли свадьбы и справляли поминки, потому что была суббота. И по той же причине в городской бане заканчивался единственный банный день, и дым из трубы тянулся из последних сил, словно от затушенной свечки.
Ирина Ефимовна проводила меня до калитки. Шел я куда глаза глядят. И за все, что глаза видели, за каждый шаг и вздох ничего другого в этот вечер не оставалось мне, как благодарить и благодарит.
© Максим Кунгас

Источник: www.yaplakal.com/
Весной Ирине Ефимовне Суворовой выпало счастье. Дом, в котором бывшая медсестра железнодорожного санатория станции Сергач живет с 1978 года, обзавелся новой крышей. Теперь он самый заметный на Ленинской улице. Домик Суворовой до сих пор выглядит нарядно, словно школьник на первое сентября. Ремонт был произведен силами Горьковской железной дороги по программе улучшения жилищных условий железнодорожников — участников и ветеранов войны.
И хотя тому минул уже почти год, Ирине Ефимовна все не может успокоиться. Чуть что, счастье свое вспоминает. И тут же начинает благодарить. Женщина составила обстоятельный список с фамилиями «виновных» в новой крыше. Здесь все: от Господа Бога до начальника Горьковской дороги Лесуна, который лично поздравлял Суворову с Днем Победы.
Памяти этой женщины можно позавидовать. Она с пугающей ясностью помнит подробности трех четвертей пережитого ею века. Например, первые сорок минут нашей встречи она рассказывала, как ездила навещать сына-срочника 3 октября 1977 года. И какие узоры были на полотенчиках в солдатской столовой. И как они с дочерью мыли кружки. И какие гостинцы с собой привезли — угощать сослуживцев сына. И о том, как другие «сильно умные» родители пытались пронести на территория части водку в целлофановом пакете тайком от бдительный проверяющих, да не вышло…
Но когда Ирина Ефимовна вспоминает рецепт отвара их еловых иголок, ольховых сережек и рассказывает, как правильно надо сосать березовый лист, чтобы выжить в Бухенвальде, вот тогда прирастаешь к стулу и перестаешь понимать, почему за окном так мирно идет снег, а фонари у Дома культуры безмятежно плавают в сумерках и не гаснут.
[next]
В августе 1941 года ей исполнилось двенадцать лет. Тогда она жила с мамой и сестрой в Белоруссии, в Речицком районе Гомельской области. Старший брат — на Дальнем Востоке, старшая сестра — во Львове. Трудно представить себе, что первых немцев она увидела лишь весной 42-го. До тех пор в деревне Кузьмино они не появлялись. Необходимости не было, а осенью и весной кузьминцы жили как на острове, отрезанные от внешнего мира разливавшимися притоками Днепра и Березины. Летом через болота не каждый проедет, а зимой снег по пояс. Народ попрятал лодки, порезал всех собак, чтоб не шумели, и жил слухами. Немцы палили в округе деревни вместе с жителями, травили и сжигали колодцы. Наконец, в мае добрались и до Кузьмина.
— Зашли в дом два офицера, походили по комнатам, на нас с сестрой внимания не обратили, — говорит Ирина Ефимовна. — Думали своему начальству квартиру найти, только дом был маловат.
— Как вы это поняли?
— Немецкий знала.
— Откуда?
В селе у нас двое мужиков вернулись из германского плена после первой войны с женами-немками, и дети их на языке говорили. В школе у нас немецкий еврейка преподавала. Я легко выучилась… И вот те ушли, и вслед повалил немец. Шарили по домам, все забрали, даже белье. Скотину порезали и уехали — тишина…
Наш председатель сказал, что пора и нам в лес. И стали мы уходить. Председатель — командиром партизанского отряда. А наш Кербицкий лес знаете какой? Здесь войдешь — только в Воронеже выйдешь. Детей председателя предатель выдал, их расстреляли перед воротами, жена с ума сошла, бродила по улицам и выла, а он сам в деревню вернулся и там погиб. Хороший был человек. Нас ведь отец бросил, дом продал, на Урал укатил «двадцатипятитысячником» колхозы организовывать, а председатель нам новый дом построил…
И я была в партизанах. Ходила в разведку. Одевалась нищенкой — и по сёлам за милостыней. Бывало, неделями из села в село, и в Холмичи, и в Речицы, и в Брагино. И даже на Украину. Мальчишечку со мной отпускали, только имени его я не знала. Мы на хлеб просили и кругом смотрели и слушали, где да как немец устраивался, каким числом и как лучше к нему подойти. Ночевали по лесам, на точках партизанских, в шалашиках. А в Хомичах и других городах были у нас квартиры, где связные. Мы никогда ничего не записывали, все только на память. После нас и мосты подрывали, и поезда под откос пускали…
Много чего видела. За Холмичами в пяти километрах — овраг. Мы раз туда шли через него, а обратно — ничего не пойму, не узнаю места. Нет оврага. Одно поле. Пошли, а под нами земля колышется. Я и говорю — землетрясение! В один дух до лесу добежали, страшно, сердце колотится. Но куда овраг-то делся?! Командиру рассказываем, а он:
— Эх, ребятки, в том овраге евреев живьем немцы закопали. И оттого земля шевелилась и овраг в поле превратился.
Мне водки предлагали выпить, чтоб в себя прийти, а я не стала. Три дня есть не могла…
А потом меня послали на Украину. Из двух сел успела я сведения передать, а в третьем попала в облаву. И не вырвешься, с собаками вели нас до самого Луцка, а там погрузили в вагоны и повезли в Германию. Всех евреев еще по дороге где-то в Польше высадили. А остальных в Бухенвальд.
Дети жили в отдельных бараках. Каждое утро тех, кто сам на ноги встать не мог, на тележке увозили и сжигали. Но мы там одного еврейчика спасали. Он сам из немецких был, как к нам попал, непонятно. И чтоб про него надзирательницы не догадались, мы ему голову мыли отваром из березовых листьев. Тогда он из черноволосого пегим становился.
Барак возле леса стоял, а лес мне как дом родной. Я травы разные соберу — медуницу, тысячелистник, с ольхи сережек, иголок еловых, заварю, и мы пьем. Тем и желудки свои спасали, так и выжили.
Я отчего-то верила, что живой останусь. Там таких, как я, здоровеньких, двенадцать человек было. Номеров на руки нам не ставили, кровь забирали для своих солдат, граммов по двести, сладкой водой поили. Я верила, что выживу. А потом бомбежки начались. И как-то утром, уже в апреле 45-го, надзирательницы сами нас отпустили. Сказали: идите куда хотите. Так и идти никто уже не мог — поползли в разные стороны, как тараканчики.
Я увидела на горе хозяйство, в сарае в стог сена заползла и смотрю — собака. Учуяла меня, подошла и села. Не такая, как у нас в лагере: не кидалась, а охраняла, чтоб я не вышла. А в сумерках хозяин вернулся, немец. Я думала, он меня сдаст, а он пиджачок свой в клеточку накинул на меня и в дом повел. Там хозяйке говорит, вот, мол, тебе девчонку привел оттуда. Она спросила, не видел ли кто. Никто. Он велел воды нагреть и помыть меня. Она меня в корыто усадила, моет, а сама плачет:
— Боже мой, что они наделали, боязно дотронуться!
Я же как спичка, на мне все ее платья как на кол надетые.
— Хлеба много ей не давай, — сказал хозяин, — а то умрет. Дай ей огурцов и капусты чуть-чуть.
Я у них прожила недолго, хозяин отвел меня в город Петцник, а там наши собирали всех выживших. Нас погрузили на машины и повезли в Бреслау, там справки наводили, искали родственников, опять сортировали и на поезде — домой.
В Раве-Русской упросила меня с поезда ссадить, я же знала свой адрес и собиралась пешком домой идти. А полковник-медик, начальник поезда, мне говорит:
— Мы тебя оставим, только ты, девонька, никому не рассказывай, что в партизанах ходила. Кругом бандеры, узнают — вмиг убьют.
Так дошла я до Луцка, а там знакомую встретила и через нее узнала адрес почты во Львове, где моя средняя сестра работала. И к ней пошла. А она меня не узнала сразу, ей же сказали, что меня расстреляли. Все мои тогда жили у станции, где старшая сестра работал, в железнодорожных домах. И вот мы приходим, сестра спит, мама белье стирает, меня в сенях оставили, и я слышу их разговор:
— Мам, ты в церковь ходишь, как ты Иринку поминаешь?
— За здравие, — мама отвечает. — Я ее даже во сне мертвой не видела. И сон на днях был: три гусыни летят, и одна пошла низко-низко и ко мне подходит. Я тут проснулась…
— Подожди, мам, — сестра говорит, — вот капель выпей… Жива наша Иринка…
И двери открывает. Я с порога:
— Мама!
А она:
— Вот она, гусыня моя пришла! — и в обморок.
И выходили меня, и выкормили. Работать пошла санитаркой в инфекционную клинику, школу окончила, лаборанткой была в мединституте. И никому-никому не рассказывала, что партизанкой ходила в разведку. Даже мужу своему первые десять лет ни слова.
Он во Львове пожарное училище окончил, мы с ним в инфекционной познакомились. В 56-ом его распределили в Арзамас, а потом в Сергач. И он до полковника здесь дорос. Я за ним сюда. В линейной больнице работала, фельдшером по разъездам моталась, а в 79-м перешла в санаторий «Серебряные Ключи». Нам уже год как этот дом дали, но здесь такие соседи жили, скажу я вам, а муж мой ругаться с начальством не умел…
И еще час в тех же интонациях и подробностях я слушал историю о новой квартире, пересказ писем старшего сына со службы, подробности того, как мух строил новую пожарку, как болел и неожиданно умер, о чем говорил за три дня и за несколько часов до смерти, о дочкиных неурядицах, о внучке и рецептах от детской простуды. И, конечно же, о новой чудесной крыше. И раз двадцать посмотрел на потолок с темными полосами от бывших потеков. Потолок больше не течет.
А за окном все так же шел снег, и город Сергач лежал на самом дне зимних сумерек. Со дна светились окна домов. Во всех кафе гуляли свадьбы и справляли поминки, потому что была суббота. И по той же причине в городской бане заканчивался единственный банный день, и дым из трубы тянулся из последних сил, словно от затушенной свечки.
Ирина Ефимовна проводила меня до калитки. Шел я куда глаза глядят. И за все, что глаза видели, за каждый шаг и вздох ничего другого в этот вечер не оставалось мне, как благодарить и благодарит.
© Максим Кунгас

Источник: www.yaplakal.com/
Портал БАШНЯ. Копирование, Перепечатка возможна при указании активной ссылки на данную страницу.