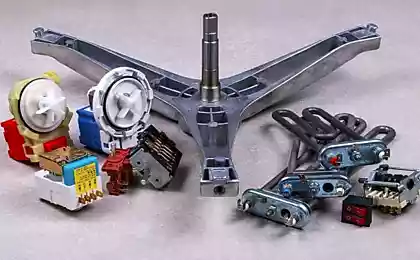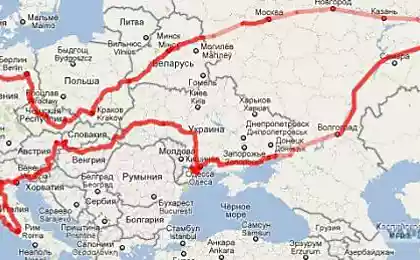556
0.1
2016-09-21
«Опыт еще не есть мудрость»: писатель Александр Григоренко о поисках своего места на земле
Опыт еще не есть мудрость»: писатель Александр Григоренко о мифологии северных народов и поисках своего места на земле. Может ли человек существовать в гармонии с природой, есть ли жизнь в тайге и почему монголы — величайшие рационалисты своего времени: разговор с Александром Григоренко, чей роман «Ильгет» в этом году претендует на премию «Большая книга». — Когда я читала роман «Ильгет», меня преследовали три литературные ассоциации: очевидная — Джек Лондон; менее очевидная — Чарльз Диккенс; совсем неочевидная — «Пер Гюнт» Ибсена. Давайте начнем с Лондона. В «Ильгете» — так же как и в произведениях американского классика — особое место отведено отношениям человека с природой. Но если Лондон изображает эти отношения как вечную борьбу, то герои «Ильгета», несмотря на тяжелые жизненные условия, все равно умудряются существовать в гармонии с окружающим их миром. А как вы считаете, человек и природа — это враги или все–таки партнеры?
— Джек Лондон — человек нового времени, когда природа стала восприниматься именно как окружающая среда. Человек нового времени может очень бережно относиться к природе или покорять ее, но разговор с природой для него невозможен, потому что он не воспринимает ее как существо, как равноправную — или даже превосходящую — сторону диалога. Я говорю о разговоре с природой не как о литературном обороте, а в самом буквальном смысле, как это было у язычников, видевших мир — зверей, скал, птиц, воды, трав, деревьев — как сообщество живых существ, обладающих характером, логикой, законами, непредсказуемостью, то есть всеми свойствами личности. В «Ильгете» (как и в «Мэбэте») гармония с природой состоит не в том, что герои наделены правильным «экологическим сознанием», а в том, что они могут поругаться и помириться с рекой, пожаловаться камню, испытывать вину перед зверем, спрашивать совета у луны, бояться сболтнуть лишнего перед лицом огня, потому что знают его обидчивость…
— То есть разговор с природой — это атрибут в первую очередь языческого сознания?
— Дело даже не в язычестве — это слишком широкое понятие: в мире Франциска Ассизского были и «братец Огонь», и «братец Железо», и «братец Волк» и еще целое сонмище «братцев» и «сестриц». В конце концов, христианин знает о запрете поклоняться твари, но также он знает, что природа создана Творцом, каждый ее предмет или существо несут в себе отблеск его животворящей силы и потому требуют почтительного отношения к себе. А когда нет ни языческого «разговора», ни христианской почтительности, остается лишь уповать на здравый смысл, законы и прочие малонадежные вещи. У Лосева я запомнил мысль о том, что вне мифа не может существовать никакое сознание, даже насквозь научное: есть мифология солнечного света и мифология электрической лампочки, мифология живого и неживого. Враги мы с природой или наоборот — все зависит от того, чего в нас больше — живого или мертвого. В лучших образцах нашей «деревенской» классики природа — такой же персонаж, как люди: у Астафьева человека судит рыба, у Распутина люди мучаются от настоящей, не поэтической вины перед землей. Примерно такие же отношения с природой бывают и в действительности, правда, редко. Но, думаю, не все потеряно.

© Антон Петров/ Siburbia.ru
— На меня огромное впечатление произвела глава «Жена-волчица», где женщину, преданную мужем, спасает от смерти волк — и она сама становится волчицей и платит ему за это безраздельной верностью. Можно ли сказать, что эта глава — метафора любви? Или вы хотели вложить в нее какой-то иной смысл?
— Пожалуй, это единственный в книге сюжет, взятый из северных сказаний почти неизменным. У ненцев есть несколько вариантов историй про жену-волчицу: в одном молодых женят не по любви, отчего они ненавидят друг друга, в другом жена — неряха, в третьем — прелюбодейка. То есть причины разные, но исход один: муж перебивает жене руки и ноги, бросает умирать, женщину спасает волк, она обращается в волчицу и перегрызает глотку мужу прежнему. Возможно, это метафора любви, но любовь шире любых метафор. Такая метафора подходит Уме, женщине, мечтавшей стать рыбой, чтобы дети вылетали из нее как икринки: она есть собственно плодородие, сила которого дает ей запредельную верность и такую же ненависть. По-моему, более полная метафора любви — горбатый волк, потому что он обладает невероятной силой сострадания, способной не то что спасать от смерти, а давать новую жизнь. Когда я читал ненецкие сказания — они очень короткие — меня поразил именно волк, а не женщина.
«Есть мифология солнечного света и мифология электрической лампочки, мифология живого и неживого. Враги мы с природой или наоборот — все зависит от того, чего в нас больше — живого или мертвого»
— Насколько точно вы воспроизводите северный народный эпос в романе?
— Помимо завязки с детьми-рабами, жены-волчицы и еще очень немногого — все выдумано. Просто, столкнувшись с этими сказаниями, я вдруг понял, что напал на материал, который позволяет мне заговорить о тех вещах, о которых я раньше хотел сказать, но не мог.
— Чем вас так увлек этот мир?
— Наверное, тем, что сосредоточен на действии при почти полном отсутствии описательности. Это жизнь жестокая, нежная и немногословная. Тайга и тундра вообще мир малонаселенный, поэтому там каждое существо на виду. Но самое главное, тайга не имеет в нашем сознании каких-либо ассоциаций, и это позволяет создавать свой мир практически с нуля — мир, который, при всей его сказочности, вполне реален.
— Можно ли утверждать, что вы с помощью «Ильгета» стремились не только рассказать захватывающую историю, поставить перед читателем ряд вопросов философского характера, но и пробудить в нем интерес к культуре и быту народов, о которых мы, увы, сейчас очень мало знаем? И если да, то почему вы решили сделать это с помощью художественного произведения, а не, скажем, документально-этнографического исследования?
— Честно говоря, я не считаю себя знатоком фольклора таежных народов. У меня было стремление «населить» тайгу, которая в русском культурном сознании, можно сказать, необитаема. Потому что я сам в какой-то степени таежный житель, хотя на работу езжу в миллионный Красноярск и вообще обладаю всеми повадками типичного горожанина. Тайга — это то, что меня окружает, мне всегда хотелось знать, что происходило здесь, может быть, тысячу лет назад или еще раньше, хотя, конечно, я понимаю, что это вряд ли возможно. Дорусская Сибирь почти не имеет записанной истории, ее можно только домысливать, опираясь на фольклор. Скорее это тот случай, когда поэзия подменяет науку. В конце концов о реальной Троянской войне мы знаем по Гомеру — достижения археологии могут здесь только что-то добавить.
— Если с Лондоном все понятно, то с диккенсовской вашу творческую манеру роднит, на мой взгляд, жанровое своеобразие. «Ильгет» — это и роман-притча, и роман-воспитание, и приключенческий роман (и здесь на память сразу приходит «Оливер Твист»). А как бы вы определили жанр своей книги?
— Думаю, это что-то близкое к эпосу, поскольку там есть взгляд из космоса, есть мотивы завоевания, странствия, а самое главное — духи, люди, звери существуют в одной плоскости.
— В «Ильгете» встречается много элементов волшебной сказки: начиная с мотива тайны рождения и заканчивая рядом вспомогательных персонажей, которые в критический момент выручают Ильгета из беды. Стоит ли за образом Ильгета какой-то сказочный архетип? Например, Иван-дурак?
— Ивана-дурака там точно нет, как, наверное, вообще каких-либо «готовых» сказочных героев. Я хотел рассказать историю человека, которого судьба швыряет от ничтожества к величию, от униженности к власти, и так до бесконечности, что волей-неволей порождает давние вопросы: кто в этом виноват? Чего ты на самом деле стоишь? Из каких сцеплений создается каждая ситуация и вообще судьба? Вместо «готового» героя есть сквозной сюжет, который встречается в сказаниях многих северных народов, — о том, как удачливый воин берет в добычу маленьких детей врага, растит их в своей семье, но дети не приживаются. Вариантов сюжета множество, но завязка почти всегда такая, и мне она тоже пригодилась.

© Антон Петров/ Siburbia.ru
— До тех пор, пока в «Ильгете» не появляются орды монголов, романное время ощущается довольно абстрактным: миф и реальность переплетены так тесно, что невозможно понять, когда именно происходит действие. Но в третьей части вы вдруг обрушиваете на читателя конкретное историческое время. Зачем нужен столь резкий переход от частной истории к истории всеобщей?
— Этот провал в историю мне понадобился потому, что он действительно был. Исторически о нем известно, по большому счету, лишь то, что в 1218 году Джучи, сын Чингисхана, предпринял карательный поход по льду Енисея «на два месяца пути». Остальное остается только домысливать — прежде всего то, как люди, обитавшие в природе, жившие своей частной жизнью, помимо воли попадают в совсем другую реальность. Мы же говорили о Джеке Лондоне, языческих разговорах с природой и новом времени — собственно, это и есть тот самый провал из язычества в современность, из мира духов в мир цифры. Монголы — величайшие рационалисты своего времени. Этот небольшой степной народ завоевал полмира не потому, что обладал какой-то особой свирепостью: монголы просто реже ошибались, чем все другие, намного реже. Чингисхан довел искусство управления массами людей до такой степени, что вероятность просчета уничтожалась в зародыше. Он (как и его таежный двойник Ябто) хотел навести порядок в мире, где каждый живет сам по себе, шатается где захочет, а шататься следует где нужно и поступать, как скажут, — тогда и будет порядок. Этот порядок — и есть история.
— Я как человек, который вырос на романах Фенимора Купера, Конан Дойла и того же Лондона, понимаю, что сейчас ощущается острая нехватка качественной детской приключенческой литературы. И для меня «Ильгет» ценен еще и тем, что это книга, которую я бы точно дала прочитать своим детям, когда им исполнится лет 12–13. Наверное, они не все поймут, но им точно будет чему у героев научиться. Вас не пугает возможная перспектива получить статус автора, который пишет для юношества? Вы вообще разделяете писателей на детских и взрослых?
— Как говорил Чуковский, «для детей нужно писать так же, как для взрослых, только лучше». Корнея Ивановича я люблю, сколько себя помню, и думаю, хороший автор, как дети говорят, «всехний». Так что перспектива стать писателем для юношества меня не пугает, хотя, честно говоря, я не ориентировался на читателя какого-то конкретного возраста. Для меня важны люди, которые интересны сами себе.
— Пожалуй, самым сложным для юного читателя персонажем «Ильгета» станет Кукла Человека — эдакий вечный соглядатай истории, который смотрит на происходящее с пьедестала своей жестокой мудрости. И здесь мы как раз подходим к вопросу о близости вашего романа к Гюнтиане, где тоже есть ряд персонажей, которые оценивают поступки Пера и становятся выразителями авторской позиции, находясь как бы над повествованием. Можно ли сказать, что Кукла Человека — это ваше романное альтер-эго, что он транслирует ваши мысли? Какова символика самого прозвища «Кукла Человека»?
«Я хотел рассказать историю человека, которого судьба швыряет от ничтожества к величию, от униженности к власти, и так до бесконечности»
— Кукла Человека есть и у нас — это фотография умершего, рядом с которой обычно ставят рюмку, что-нибудь съестное и верят, что так мы поддерживаем с ним связь, «кормим» его. У северных аборигенов фотографии не было, поэтому они вырезали куклу, символизировавшую покойника, и так же делили с ней трапезу. Выражение «высох, как кукла человека», сказанное о глубоком старике, я встречал только раз, и уже не помню где, — но эта гипербола старости меня заинтересовала — так и появился этот персонаж. Кукла Человека если и является моим альтер-эго, то примерно в той же степени, в какой и большинство прочих персонажей, — в каждом есть часть меня самого. То, чем обладает Кукла Человека, вряд ли можно назвать мудростью — потому что опыт еще не есть мудрость. Скорее, этот персонаж показывает трагедию проигранной жизни. Люди думают, что не успевают понять чего-то важного из–за обидной краткости своего века, и Кукле, шуткой богов, дается столько жизней, сколько звеньев у хребта щуки. Но почти дожив этот бесконечный век, он так ничего и не нашел в жизни, кроме занудной повторяемости. Он не нашел в ней нечто бесконечное, вселяющее неистощимую надежду — Бога. Жизнь для него стала мучением, от которого он хочет избавиться.
— Как и Пер Гюнт, Ильгет на протяжении всего романа мучительно ищет себя. Примеряя разные личины, Пер, как ему казалось, хотел одного — «быть самим собой». Но на деле, как ему позже объяснил Доврский дед, следовал формуле троллей: «упиваться самим собой». А чего хочет Ильгет? И что он в итоге получает?
— Ильгет по сюжету ищет «свою реку», свое место на земле, и находит его, но потом оказывается, что его удел — бесконечное странствие в поисках того, чего не нашел Кукла Человека. Ильгет не получает готового ответа, он получает только возможность этого ответа, чего, по-моему, достаточно для того, чтобы человек жил и не считал жизнь мучением. А все, что идет после того, как ответ найден, — уже апологетика, а не литература.
Источник: theoryandpractice.ru
— Джек Лондон — человек нового времени, когда природа стала восприниматься именно как окружающая среда. Человек нового времени может очень бережно относиться к природе или покорять ее, но разговор с природой для него невозможен, потому что он не воспринимает ее как существо, как равноправную — или даже превосходящую — сторону диалога. Я говорю о разговоре с природой не как о литературном обороте, а в самом буквальном смысле, как это было у язычников, видевших мир — зверей, скал, птиц, воды, трав, деревьев — как сообщество живых существ, обладающих характером, логикой, законами, непредсказуемостью, то есть всеми свойствами личности. В «Ильгете» (как и в «Мэбэте») гармония с природой состоит не в том, что герои наделены правильным «экологическим сознанием», а в том, что они могут поругаться и помириться с рекой, пожаловаться камню, испытывать вину перед зверем, спрашивать совета у луны, бояться сболтнуть лишнего перед лицом огня, потому что знают его обидчивость…
— То есть разговор с природой — это атрибут в первую очередь языческого сознания?
— Дело даже не в язычестве — это слишком широкое понятие: в мире Франциска Ассизского были и «братец Огонь», и «братец Железо», и «братец Волк» и еще целое сонмище «братцев» и «сестриц». В конце концов, христианин знает о запрете поклоняться твари, но также он знает, что природа создана Творцом, каждый ее предмет или существо несут в себе отблеск его животворящей силы и потому требуют почтительного отношения к себе. А когда нет ни языческого «разговора», ни христианской почтительности, остается лишь уповать на здравый смысл, законы и прочие малонадежные вещи. У Лосева я запомнил мысль о том, что вне мифа не может существовать никакое сознание, даже насквозь научное: есть мифология солнечного света и мифология электрической лампочки, мифология живого и неживого. Враги мы с природой или наоборот — все зависит от того, чего в нас больше — живого или мертвого. В лучших образцах нашей «деревенской» классики природа — такой же персонаж, как люди: у Астафьева человека судит рыба, у Распутина люди мучаются от настоящей, не поэтической вины перед землей. Примерно такие же отношения с природой бывают и в действительности, правда, редко. Но, думаю, не все потеряно.

© Антон Петров/ Siburbia.ru
— На меня огромное впечатление произвела глава «Жена-волчица», где женщину, преданную мужем, спасает от смерти волк — и она сама становится волчицей и платит ему за это безраздельной верностью. Можно ли сказать, что эта глава — метафора любви? Или вы хотели вложить в нее какой-то иной смысл?
— Пожалуй, это единственный в книге сюжет, взятый из северных сказаний почти неизменным. У ненцев есть несколько вариантов историй про жену-волчицу: в одном молодых женят не по любви, отчего они ненавидят друг друга, в другом жена — неряха, в третьем — прелюбодейка. То есть причины разные, но исход один: муж перебивает жене руки и ноги, бросает умирать, женщину спасает волк, она обращается в волчицу и перегрызает глотку мужу прежнему. Возможно, это метафора любви, но любовь шире любых метафор. Такая метафора подходит Уме, женщине, мечтавшей стать рыбой, чтобы дети вылетали из нее как икринки: она есть собственно плодородие, сила которого дает ей запредельную верность и такую же ненависть. По-моему, более полная метафора любви — горбатый волк, потому что он обладает невероятной силой сострадания, способной не то что спасать от смерти, а давать новую жизнь. Когда я читал ненецкие сказания — они очень короткие — меня поразил именно волк, а не женщина.
«Есть мифология солнечного света и мифология электрической лампочки, мифология живого и неживого. Враги мы с природой или наоборот — все зависит от того, чего в нас больше — живого или мертвого»
— Насколько точно вы воспроизводите северный народный эпос в романе?
— Помимо завязки с детьми-рабами, жены-волчицы и еще очень немногого — все выдумано. Просто, столкнувшись с этими сказаниями, я вдруг понял, что напал на материал, который позволяет мне заговорить о тех вещах, о которых я раньше хотел сказать, но не мог.
— Чем вас так увлек этот мир?
— Наверное, тем, что сосредоточен на действии при почти полном отсутствии описательности. Это жизнь жестокая, нежная и немногословная. Тайга и тундра вообще мир малонаселенный, поэтому там каждое существо на виду. Но самое главное, тайга не имеет в нашем сознании каких-либо ассоциаций, и это позволяет создавать свой мир практически с нуля — мир, который, при всей его сказочности, вполне реален.
— Можно ли утверждать, что вы с помощью «Ильгета» стремились не только рассказать захватывающую историю, поставить перед читателем ряд вопросов философского характера, но и пробудить в нем интерес к культуре и быту народов, о которых мы, увы, сейчас очень мало знаем? И если да, то почему вы решили сделать это с помощью художественного произведения, а не, скажем, документально-этнографического исследования?
— Честно говоря, я не считаю себя знатоком фольклора таежных народов. У меня было стремление «населить» тайгу, которая в русском культурном сознании, можно сказать, необитаема. Потому что я сам в какой-то степени таежный житель, хотя на работу езжу в миллионный Красноярск и вообще обладаю всеми повадками типичного горожанина. Тайга — это то, что меня окружает, мне всегда хотелось знать, что происходило здесь, может быть, тысячу лет назад или еще раньше, хотя, конечно, я понимаю, что это вряд ли возможно. Дорусская Сибирь почти не имеет записанной истории, ее можно только домысливать, опираясь на фольклор. Скорее это тот случай, когда поэзия подменяет науку. В конце концов о реальной Троянской войне мы знаем по Гомеру — достижения археологии могут здесь только что-то добавить.
— Если с Лондоном все понятно, то с диккенсовской вашу творческую манеру роднит, на мой взгляд, жанровое своеобразие. «Ильгет» — это и роман-притча, и роман-воспитание, и приключенческий роман (и здесь на память сразу приходит «Оливер Твист»). А как бы вы определили жанр своей книги?
— Думаю, это что-то близкое к эпосу, поскольку там есть взгляд из космоса, есть мотивы завоевания, странствия, а самое главное — духи, люди, звери существуют в одной плоскости.
— В «Ильгете» встречается много элементов волшебной сказки: начиная с мотива тайны рождения и заканчивая рядом вспомогательных персонажей, которые в критический момент выручают Ильгета из беды. Стоит ли за образом Ильгета какой-то сказочный архетип? Например, Иван-дурак?
— Ивана-дурака там точно нет, как, наверное, вообще каких-либо «готовых» сказочных героев. Я хотел рассказать историю человека, которого судьба швыряет от ничтожества к величию, от униженности к власти, и так до бесконечности, что волей-неволей порождает давние вопросы: кто в этом виноват? Чего ты на самом деле стоишь? Из каких сцеплений создается каждая ситуация и вообще судьба? Вместо «готового» героя есть сквозной сюжет, который встречается в сказаниях многих северных народов, — о том, как удачливый воин берет в добычу маленьких детей врага, растит их в своей семье, но дети не приживаются. Вариантов сюжета множество, но завязка почти всегда такая, и мне она тоже пригодилась.

© Антон Петров/ Siburbia.ru
— До тех пор, пока в «Ильгете» не появляются орды монголов, романное время ощущается довольно абстрактным: миф и реальность переплетены так тесно, что невозможно понять, когда именно происходит действие. Но в третьей части вы вдруг обрушиваете на читателя конкретное историческое время. Зачем нужен столь резкий переход от частной истории к истории всеобщей?
— Этот провал в историю мне понадобился потому, что он действительно был. Исторически о нем известно, по большому счету, лишь то, что в 1218 году Джучи, сын Чингисхана, предпринял карательный поход по льду Енисея «на два месяца пути». Остальное остается только домысливать — прежде всего то, как люди, обитавшие в природе, жившие своей частной жизнью, помимо воли попадают в совсем другую реальность. Мы же говорили о Джеке Лондоне, языческих разговорах с природой и новом времени — собственно, это и есть тот самый провал из язычества в современность, из мира духов в мир цифры. Монголы — величайшие рационалисты своего времени. Этот небольшой степной народ завоевал полмира не потому, что обладал какой-то особой свирепостью: монголы просто реже ошибались, чем все другие, намного реже. Чингисхан довел искусство управления массами людей до такой степени, что вероятность просчета уничтожалась в зародыше. Он (как и его таежный двойник Ябто) хотел навести порядок в мире, где каждый живет сам по себе, шатается где захочет, а шататься следует где нужно и поступать, как скажут, — тогда и будет порядок. Этот порядок — и есть история.
— Я как человек, который вырос на романах Фенимора Купера, Конан Дойла и того же Лондона, понимаю, что сейчас ощущается острая нехватка качественной детской приключенческой литературы. И для меня «Ильгет» ценен еще и тем, что это книга, которую я бы точно дала прочитать своим детям, когда им исполнится лет 12–13. Наверное, они не все поймут, но им точно будет чему у героев научиться. Вас не пугает возможная перспектива получить статус автора, который пишет для юношества? Вы вообще разделяете писателей на детских и взрослых?
— Как говорил Чуковский, «для детей нужно писать так же, как для взрослых, только лучше». Корнея Ивановича я люблю, сколько себя помню, и думаю, хороший автор, как дети говорят, «всехний». Так что перспектива стать писателем для юношества меня не пугает, хотя, честно говоря, я не ориентировался на читателя какого-то конкретного возраста. Для меня важны люди, которые интересны сами себе.
— Пожалуй, самым сложным для юного читателя персонажем «Ильгета» станет Кукла Человека — эдакий вечный соглядатай истории, который смотрит на происходящее с пьедестала своей жестокой мудрости. И здесь мы как раз подходим к вопросу о близости вашего романа к Гюнтиане, где тоже есть ряд персонажей, которые оценивают поступки Пера и становятся выразителями авторской позиции, находясь как бы над повествованием. Можно ли сказать, что Кукла Человека — это ваше романное альтер-эго, что он транслирует ваши мысли? Какова символика самого прозвища «Кукла Человека»?
«Я хотел рассказать историю человека, которого судьба швыряет от ничтожества к величию, от униженности к власти, и так до бесконечности»
— Кукла Человека есть и у нас — это фотография умершего, рядом с которой обычно ставят рюмку, что-нибудь съестное и верят, что так мы поддерживаем с ним связь, «кормим» его. У северных аборигенов фотографии не было, поэтому они вырезали куклу, символизировавшую покойника, и так же делили с ней трапезу. Выражение «высох, как кукла человека», сказанное о глубоком старике, я встречал только раз, и уже не помню где, — но эта гипербола старости меня заинтересовала — так и появился этот персонаж. Кукла Человека если и является моим альтер-эго, то примерно в той же степени, в какой и большинство прочих персонажей, — в каждом есть часть меня самого. То, чем обладает Кукла Человека, вряд ли можно назвать мудростью — потому что опыт еще не есть мудрость. Скорее, этот персонаж показывает трагедию проигранной жизни. Люди думают, что не успевают понять чего-то важного из–за обидной краткости своего века, и Кукле, шуткой богов, дается столько жизней, сколько звеньев у хребта щуки. Но почти дожив этот бесконечный век, он так ничего и не нашел в жизни, кроме занудной повторяемости. Он не нашел в ней нечто бесконечное, вселяющее неистощимую надежду — Бога. Жизнь для него стала мучением, от которого он хочет избавиться.
— Как и Пер Гюнт, Ильгет на протяжении всего романа мучительно ищет себя. Примеряя разные личины, Пер, как ему казалось, хотел одного — «быть самим собой». Но на деле, как ему позже объяснил Доврский дед, следовал формуле троллей: «упиваться самим собой». А чего хочет Ильгет? И что он в итоге получает?
— Ильгет по сюжету ищет «свою реку», свое место на земле, и находит его, но потом оказывается, что его удел — бесконечное странствие в поисках того, чего не нашел Кукла Человека. Ильгет не получает готового ответа, он получает только возможность этого ответа, чего, по-моему, достаточно для того, чтобы человек жил и не считал жизнь мучением. А все, что идет после того, как ответ найден, — уже апологетика, а не литература.
Источник: theoryandpractice.ru
Портал БАШНЯ. Копирование, Перепечатка возможна при указании активной ссылки на данную страницу.
Желание справедливости оказалось сильнее жажды
Настойка сосновых шишек с яблочным уксусом от инсульта