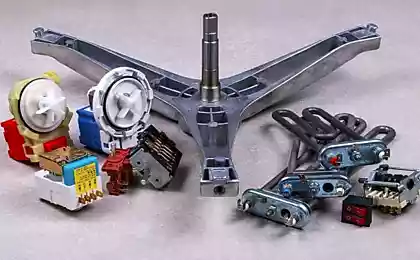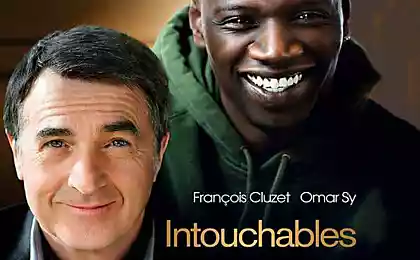558
0.1
2016-09-20
Пусть едят пирожные: историк Филипп Перро о праве на роскошь
Подавать гостям, как Эзоп, рагу из языков птиц или поливать платаны, как Гортензий, сладким вином; разводить баранов, откармливая их таким образом, чтобы шерсть приобрела пурпурный оттенок и радовала глаза. Как наш разум, рациональный и демократичный, может постичь эти поступки, не осуждая их, не считая расточительными, тщеславными, скандально бессмысленными и бесполезными — публикуем главу из книг Филиппа Перро «Роскошь».
Будучи изначально результатом контраста, роскошь проявляет и выражает себя лишь при условии нехватки чего бы то ни было. Поэтому коль скоро в каждом обществе в каждую эпоху нехватка своя, то и роскошь тоже своя, причем одно не существует без другого. За исключением редких случаев физиологического свойства (голод, холод), эта нехватка может проявиться лишь в определенной форме, в которой содержится информация о ней, она подчинена законам социальной логики и структурирована особым социальным пространством. Именно на фоне межличностных отношений проявляются адекватность или неадекватность средств и целей; именно способ производства и распределения богатства определяет достаточность или недостаточность имеющихся ресурсов по отношению к их желаемому количеству.
«Трата — это закон, она необходима для поддержания общинного равновесия и сплоченности»

То есть нехватку нельзя рассматривать только как некую биоантропологическую неизбежность, существующую еще до того, как стал производиться продукт (который позволит преодолеть уровень физического выживания, постепенно создавая излишек материальных благ), она также следствие и результат этого производства продукта, который стал ее причиной в условиях, к примеру, рыночной экономики, где недостаток чего-либо чувствуется тем отчетливее, чем легче его объяснить и подсчитать. Излишек может обнаружиться в «лишении и бедности», а нехватка чего-либо при очевидном «изобилии».
Пока все обладают одинаковым количеством материальных благ, нет ни богатых, ни бедных, нет власти, которая может заставить одних работать на других. Но едва только будет преодолена эта стадия всеобщего равенства, когда для физического существования достаточно элементарного обеспечения потребностей, едва только две руки смогут производить больше, чем в состоянии съесть один рот, появившийся излишек может стать объектом вожделения, ставкой в игре и целью захвата (особенно если речь идет о средствах производства).
В перспективе это приводит к установлению иерархии и разделению труда, возникновению чувства неудовлетворенности, осознанию такого понятия, как «нехватка», и его институционализации. Таким образом, потребность — это уже не зависимость человека от природы, а утверждение господства одного над другими.
Разумеется, приходит в голову знаменитое объяснение первобытного механизма возникновения порочности человека и безнравственности целых народов: «Первый источник зла — неравенство; из неравенства возникли богатства <…>. Богатства породили роскошь и праздность, роскошь породила Искусства, а праздность — Науки».
Также можно вспомнить Торстейна Веблена, который в «Теории праздного класса» объяснил, что существование определенного уровня богатства и излишка в экономике способствует появлению социального разделения, которое, в свою очередь, выражается в том, что одни трудятся, другие тратят (время — от праздности, материальные блага — от их избытка). Тем не менее излишек может также «распыляться» — через перераспределение (поскольку вождь или группа, у которых сосредоточено богатство, своим положением обречены на расточительство) или через отношения на основе взаимности (тройное обязательство: давать, получать, возвращать), а еще этот излишек может «самоуничтожиться» через свое жертвенное разрушение.
В каждом из этих случаев трата — это закон, она необходима для поддержания общинного равновесия и сплоченности. Как бы то ни было, для членов одного сообщества, избавленных от необходимости трудиться ради выживания — воинов, священников, политических вождей, — отличительным признаком является «роскошь», которой требует их положение, и, для того чтобы заставить себя признать, им необ ходимо проявить себя через эту самую «роскошь», через показное расточительство этого излишка, оказавшегося у них в руках.
В условиях ограничительной экономики, которая характеризуется выраженным социальным неравенством, привилегии, дарованные отдельным людям, дают возможность остальным созерцать чудеса богатства и красоты, сосредоточенные в одних руках: пышные торжества, ненужные постройки, расточительные празднества, зрелища и излишества, которых ждут, требуют, к которым стремятся даже те, кто не может себе этого позволить и просто наслаждается их созерцанием.
Предъявлять доказательства своего существования через блеск и изобилие — обязанность любой власти. Богатые и могущественные должны украшать жизнь, расцвечивать ее, преображать, смягчать ее грубость и суровость. Эта потребность поражать, пусть даже только внешне, хоть в чем-то, хоть изредка, — укрепляет священные социальные связи, порождает сильные эмоции, вызывает чувство сопричастности, единения, воодушевления и позволяет украсить жестокую и прозаическую повседневность.
До тех пор пока иерархия положений и возможностей будет казаться естественной или зависящей от божественной воли, роскошь будет восприниматься как нормальное проявление богатства, доставшегося, разумеется, меньшинству, но для того, чтобы это самое меньшинство его выставляло напоказ и потребляло на глазах у всех. Причем делается это нарочито демонстративно: «<…> народом управляют не при помощи постановлений, не здравыми приказами. Необходимо внушить почтение, обратившись к его чувствам, доказать свою власть, подчерк нув отличительные признаки Монарха, Судейского сословия, Служителей культа.
Необходимо, чтобы сам их облик свидетельствовал о могуществе, о доброте, основательности, святости, о том, каким бывает или каким должен быть представитель определенного класса, Гражданин, облеченный неким званием и саном <…>». В этом смысле вели колепие средневековых королей и высоких вельмож возмущало неимущих крестьян нисколько не больше, чем погребальная пышность фараоновых пирамид раздражала скромных феллахов.
Феодальная рыцарская роскошь (богатые доспехи и упряжь, турниры и парады) или роскошь религиозная (величие соборов, великолепие церковного облачения, торжественные коронации и прочие празднества) знаменовали собой некий признак вызывающего уважение превосходства, которым любовались, пребывая в робком ослеплении. Священные чудеса возбуждают единые чувства и представления в мире, где теологические и светские власти объединяются и придают религиозную окраску всем формам общественной жизни.

Неразрывно связанная с такими явлениями как расточительство, дарение, гостеприимство, «щедрость» (преимущественно средневековая добродетель), роскошь, впрочем, производят, захватывают или получают лишь для того, чтобы символически «уничтожить», принести в жертву или «заморозить» в этом акте расточительства. А деньги, этот всеобщий эквивалент, предназначенный для обмена, презираются, как и торговля, эта neg-otium ig-nobilis (неблагородное занятие), которая накапливает, вместо того чтобы производить. Тратить, отдавать без счета, без оглядки — вот две стороны рыцарского идеала, идеала чести и славы.
Потому что трата своего достояния есть высшее проявление жизнеспособности, это не столько умение выразить наслаждение жизнью, сколько осуществление некоего долга. Можно отрицать, отвергать материальную выгоду, однако великодушный жест словно принуждает того, кому предназначен дар, к благодарности и признательности, а даритель становится почитаемым и уважаемым. Покровительство и сплоченность против верности и преданности: обложение оброком со стороны феодального сеньора предполагало его превосходство, а также признание вассалом, гостем или слугой своего зависимого положения.
Щедрость, вмененная в обязанность положением, а не Государством, верой, а не правом, в той же степени, что и подаяние, посредством которого растраченная роскошь находит себе оправдание и даже идеализируется, укрепляет магию власти, ее престиж, подчиняет зависимого человека и заставляет уважать уже установившуюся иерархию больше, нежели грубое господство.
На самом деле, в средневековом обществе все принесено в жертву зрелищности. Словно желая отвлечься от катастроф, угроз, опасностей, между двумя войнами, двумя неурожайными годами, двумя эпидемиями чумы, замок, церковь, мост, площадь, весь город становятся декорациями для игр и празднеств, шумных, ярких, воплощением живой эстетики и вездесущей театральности. Бродячие музыканты, вожаки медведей, различные шествия: повсюду, где есть место общественной жизни, разворачиваются некие сценические действа, которые, прерывая течение серой обыденности, становятся для общины поводом прославить свое существование и право на существование. Уличный, открытый для всех праздник, тоже общинный, собирает всех людей чаще всего вокруг каких-нибудь спортивных или военных торжеств — это страсть дворянства, чья физическая сила и ловкость должны напоминать всем о его военном предназначении.
Укрепление королевской власти и абсолютизма, возвышение принцев и придворных, утверждение рыночного капитализма и становление Государства станут понемногу менять эту расточительную или необузданную роскошь, сглаживать ее бурление, смягчать шероховатости, добавят ей великолепия или придадут совсем иное великолепие. Роскошь эпохи Возрождения с ее дерзостью, чувственностью, символизирующая неистовство и одержимость, затем роскошь барокко и классицизма с их законами против чрезмерных расходов, когда на первый план выйдет фигура короля, чья роль станет по преимуществу политической, а на второй план отныне отойдет то, чем он был в Средние века: почти исключительно фигурой религиозной и военной.
Разумеется, знаменитый парад на Поле золотой парчи, когда в 1520 году молодые короли Франции и Англии соперничали в великолепии и могуществе, еще имеет черты «потлача» в первобытном обществе или феодального турнира; но он, беря за образец утонченность и изысканность двора Блуа, уже возвещает о неслыханном торжестве меркантилизма, а главное, обретает свой язык, свой набор символов, по которым «высший класс», объединив понятия «быть» и «иметь», научится распознавать себе подобных и дистанцироваться от пошлого и вульгарного.
Вскоре на смену Нотр-Дам придет Версаль. Политическая власть будет стремиться слиться с личной властью. За притягательностью высокого положения, за символической фигурой монарха появится существо из плоти и крови. Отныне именно король станет выразителем силы, гарантией защиты и благополучия, но он же будет расточать милости как доказательство этой защиты и этого благополучия. Король, «благородный» и «величественный», сделается отныне источником всякого изобилия. Вот почему его физическое тело окружит себя пышностью, которая будет свидетельствовать, в каком-то смысле, о богатстве «общественного тела» — даже если великолепие этого символического богатства будет контрастировать с бедностью простого народа, вынужденного ежедневно бороться за существование, даже если это обращенное в ритуал богатство будет воодушевлять лишь отдельную, обособленную культуру.
«Роскошь, призванная создать культ королевской власти и восстановившегося единения, сама себя лишает священного характера по мере того, как перестает выставляться напоказ с единственной целью: показать, что она ниспослана провидением»
Дело в том, что в этой театрализации, подпитываемой аллюзиями и намеками, непонятными для непосвященных, Двор играет все более важную роль: он посылают монарху свой лучезарный образ, излучает сияние и великолепие, пленяет народ, вместе с тем отдаляясь от него. Двор постоянно присутствует при Людовике XIV как подтверждение его главенства после оспаривания монархических прерогатив эпохи Фронды, но при этом и как подтверждение самого себя, своего престижа и своих привилегий при помощи этикета и безудержного роста расходов. Ибо придворной знати, лишенной корней и ослабленной нахождением возле трона, необходимо, по крайней мере, доказать свое превосходство делами, которые ее прославят.
Освобожденная вдобавок от множества административных и политических функций, она отныне может поддерживать репутацию лишь расточительством, лишь способностью тратить, выставляя напоказ свой образ жизни, свои хорошие манеры, свои костюмы и драгоценности, свои пиры и праздники. Отныне быть — это казаться, а еще демонстрировать то, чем ты являешься. Положение регулирует расходы, которые, в свою очередь, свидетельствуют о положении и зависят только от этого положения.
Показывать и самому быть на виду. Игра в «хвастовство». Призрак целой вселенной огней, где зрение становится важнее всех остальных чувств, а еще приобретается новый опыт: то, что казалось привлекательным, оставляет ощущение разочарования, желание оказывается неудовлетворенным, а за стремлением ослеплять и восхищать все отчетливее осознается тщетность всего сущего и обманчивость всего видимого. Притом что и без того униженный идеал рыцарства окажется окончательно растоптанным, усиление абсолютизма и укрепление Государства лишь обострят это разочарование и станут причиной нравственного пессимизма.
В противовес аристократическому «я» возникает заслуживающее внимания направление: мыслители, писатели, в той или иной степени пропитанные янсенистской теологией, способствующей, как очень точно подметил Поль Бенишу, «развенчанию героя» и вместе с тем культивирующей подозрительное отношение к демонстративной расточительности. Так Паскаль изобличит проявления показной роскоши и великолепия — это всего лишь ухищрения, чтобы спрятаться от самого себя и одурачить других; а Ларошфуко наглядно объяснит побудительные мотивы щедрости и гордости — это всегда проявления самолюбия или маски, в которые оно рядится.

Впрочем, роскошь, призванная создать культ королевской власти и восстановившегося единения, сама себя лишает священного характера по мере того, как перестает выставляться напоказ с единственной целью: показать, что она ниспослана провидением.
Стимулирование промышленности и торговли, поддержка меценатства усиливают, разумеется, власть суверена и повышают престиж дворянского сословия. Но в то же самое время эти явления содержат в себе аспекты, которые невозможно контролировать политической волей, несут отпечаток утилитарности или, напротив, искусственности, служат удовольствиям более эгоистичным. Иными словами, с течением веков в искусстве показных эффектов и потреблении излишков появляются новые оттенки: развлечения и тщеславие становятся важнее, чем доказательства славы монарха, ненавязчиво свидетельствующие о его величии. Но эта мирская, светская роскошь (плод более вещественной цивилизации, которую стимулируют «кольбертизм»(одно из названий меркантилистской политики, которую проводил во Франции в XVII в. Ж.-Б. Кольбер) и плавный подъем рыночной экономики) свидетельствует о еще более глубоких переменах.
Между дворянством, которое этой роскошью пользуется, и торговой или ремесленной буржуазией, которая этой роскошью снабжает, с согласия короля заключено молчаливое соглашение: торговцы и ремесленники, живя в своем мире тяжелого труда и рабочего пота, должны лихорадочно производить на свет элегантные костюмы, изысканные кушанья, величественные жилища, изящную мебель и ковры; придворные, пребывая в своем мире аристократической праздности, должны, потребляя все это великолепие, поддерживать его производство, словно ставить на технические качества товара печать своего высочайшего одобрения.
Вся эта роскошь, которая сосредоточивается в руках одного сословия, становится причиной все более и более ожесточенного соперничества в престиже и приводит к очередным безудержным тратам, заставляя все глубже влезать в долги. Тем более что конкуренция растет, как подчеркивает Сен-Ламбер: «<…> поскольку успехи торговли, промышленности и производства предметов роскоши создали, если можно так выразиться, новый тип богатства, что сделалось причиной разобщения среди простонародья, люди, привыкшие почитать роскошь у своих Господ, стали его почитать и у равных себе; Великие мира сего сочли, что исчезла иерархия, возвышающая их над народом, им, дабы сохранить отличие, пришлось увеличить расходы». Вот почему, в то время пока торговцы и ремесленники обогащаются, дворянская роскошь выглядит не как настоящее богатство, а как попытка скрыть свое разорение, «придворную нищету», о которой писала Мадам де Севинье. «У них никогда нет ни единого су, но все они путешествуют, участвуют в походах, следят за модой, их можно увидеть на всех балах, на всех курортах, на всех лотереях, хотя бы они при этом и были разорены <…>.
Знаменитая сцена, когда Людовик XIV оказывает в Марли почести банкиру Самюэлю Бернару, у которого настойчиво просит ссуду, свидетельствует о том, что ситуация изменилась кардинально. Теперь не столько происхождение, сколько деньги дают право на роскошь. Роскошь начинает все больше проявляться в богатстве движимого имущества, а не только недвижимого именно в те времена, когда первый вид богатства начинает вытеснять второй, когда право на землю уже не сопутствует, как прежде, власти над людьми; когда престиж благородного происхождения начинает уступать престижу коммерческого или финансового влияния.
Так что второе сословие тоже станет стремиться приобрести — через брак, заем, продажу ленных владений, должностей, титулов — движимое имущество, ценные бумаги, хотя к ним и относились с презрением, между тем как богатый человек «без положения в обществе» будет стремиться утвердить свое возвышение через возведение в дворянство.
Приоритет рождения, происхождения, благородных кровей, приоритет «бескорыстной» службы государственным интересам понемногу ослабевает, зато гораздо важнее становится приращение личного состояния, погоня за роскошью, которая выставляет себя напоказ, в ней все больше сладострастия и тщеславия. Об этом заявляют и Церковь, и моралисты, такие как Лабрюйер или Фенелон. «Страсть приобретать блага ради тщеславного роскошества развращает чистые души, — отмечает Фенелон, — теперь важнее быть богатым, бедность сродни бесчестью. Будьте учены, умелы, добродетельны, просвещайте людей, выигрывайте баталии, спасайте отечество, жертвуя собственными интересами: вас станут презирать, если таланты ваши не будет огранены роскошью и великолепием».
Богатство и его проявления, занимая все более значимое место и став целью все более многочисленных слоев населения, отделяются от таких понятий, как «общественное положение», «титул», приобретают самостоятельный статус и покушаются на священную природу социальных связей, на законность самой власти. Бедняк, который прежде принимал как должное свое положение по отношению к сеньору, обладающему божественным правом, отныне ощутит успех нувориша как несправедливость, необоснованное везение, почувствует отвращение или зависть к его вызывающей, дерзкой роскоши, лишенной своей харизматической составляющей, своего божественного оправдания. А представитель древнего дворянского рода, которому станут подражать всякого рода удачливые разночинцы: негоцианты, откупщики, работорговцы, члены парламента или финансовая верхушка, сможет принять вызов роскоши, лишь рискуя еще больше погрязнуть в долгах, и это он, у которого суть жизни сведена к потреблению в чистом виде, потреблению ради почета и удовольствия, который не должен унижать себя производительным трудом, опускаться до подсчетов и накоплений. Как рассуждает Лабрюйер: «Упадок людей судейского и военного звания состоит в том, что свои расходы они соразмеряют не с доходами, а со своим положением».
Разумеется, можно попытаться через порядок слов восстановить порядок вещей: пышность двора Людовика XIV — это не роскошь Фуке. Об этом нас предупреждает Никола Деламар: «Пышность отличается от роскоши тем, что пышность не расходится со здравым смыслом, с правилами приличия: если принцы и вельможи выступают во всем своем великолепии, если они позволяют себе быть расточительными, то это всегда соответствует их высокому положению и доходам; это великолепие даже необходимо, чтобы поддерживать статус благородного происхождения, внушать уважение простолюдинам, покровительствовать торговле и искусству, в изобилии вливая туда огромные суммы, которые для их собственного состояния были бы бесполезны; следовательно, пышность — это добродетель. В роскоши, напротив, нет ничего, кроме амбиций и тщеславия <…>».
Законы против роскоши и чрезмерных расходов, как и правила этикета, имеют своей целью сдерживать эти движения, сходные и конкурирующие, экспансивные и расслабляющие, симптомы все возрастающей социальной мобильности. Потому что протекционистские и запретительные законы имеют целью не только помешать экспорту денежных средств, но и сохранить привилегии «роскоши», защитить аристократическое отличие и обличие, каждому указать его место, утвердив внешние признаки каждого сословия.
«Своенравие давало цену самым пустым вещам; всякий, не пользующийся ими, хотел казаться наслаждающимся, потому что полагал таковыми других; не имея страсти, каждый старался говорить языком страстей, и самая ложная сия страсть была весьма чудной»
Но эти преграды весьма ненадежны и, как свидетельствует образ Мещанина во дворянстве, их легко преодолеть. И если королевский абсолютизм смог на какое-то время сдерживать это явление, оно вновь проявит себя к концу правления Людовика XIV, когда «цивилизация морали» покинет глянцевое, официальное убранство Версаля и расцветет в частных особняках, когда все эти атрибуты перестанут быть принадлежностью одного лишь дворянства, и оно окажется предоставлено самому себе, своим сомнениям, своему цинизму, своим разочарованиям, в условиях общественного порядка, трагически лишенного божественной обоснованности.
Как писала маркиза де Мертей у Шодерло де Лакло: «Роскошь поглощает все: ее порицают, но приходится за нею тянуться, и в конце концов излишества лишают необходимого». Что остается человеку, который, пребывая в мире, из которого ушла вера, чувствует ничтожность своего существования, что остается ему, кроме как бежать самого себя, искать забвения в играх и фейерверках вселенского увеселения? Эта будет победа личной морали собственного удовольствия над общественной моралью королевской службы; перерождение престижа «быть» в престиж «обладать»; разрушение «величия» в пользу «обладания»; триумф денег ради денег, ставших отныне мерой всего, благодаря которым можно нравиться и наслаждаться.
И все это через роскошь, сделавшуюся окончательно светской, материалистической, просчитанной, которая служит только корысти, удовольствиям и самолюбию; через необузданную моду, когда магия легкомысленного и культ эфемерного приходят на смену вековым признакам монархического порядка, когда Город затыкает за пояс Двор, когда превосходство аристократических символов хотя и продолжает существовать, но становится иллюзорным — поскольку отныне только богатство может сделать их видимыми, а власть денег сменила правовые привилегии.
Особняки, сады, кортежи, книги, картины, статуи, безделушки; праздники, пиры, любовницы, экипажи, танцовщики, артисты; а еще платья, драгоценности, часы, табакерки — все, что окружает человека, обрамляет его самого или его образ, соперничает в изысканности и блеске. «Сегодня, когда роскошь повсюду, а деньги решают все, все смешалось в Париже <…>», — отмечает адвокат Барбье.
Суровое соперничество, тем более что охватывает оно все новые и новые социальные группы; алчное присвоение, тем более что касается оно вещей все более эфемерных, чье быстрое распространение обнаруживает и доказывает неспособность надолго удержать их ценность, бессильные попытки отвлечься от беспокойства, неудовлетворенности и скуки. «<…> поскольку только через большие расходы можно было сделаться известным, то все состояния оказываются в беспорядке, и все сословия, силясь все больше друг от друга отличиться, самым сим усилием себя смешивали. По чрезвычайному беспокойству всякий показывал обширные желания, а по суетности, которой удовлетворялся, казались все не имеющими желаний.
Своенравие давало цену самым пустым вещам; всякий, не пользующийся ими, хотел казаться наслаждающимся, потому что полагал таковыми других; не имея страсти, каждый старался говорить языком страстей, и самая ложная сия страсть была весьма чудной. Всякое пристрастие происходило лишь от повиновения законам своенравной моды, которая, будучи единственным правилом для вкуса и чувств, предписывала каждому все то, что он должен желать, говорить, делать и мыслить; мыслить было последним действием».опубликовано
Перевод с французского: А. Смирновой.
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание — мы вместе изменяем мир! ©
Присоединяйтесь к нам в Facebook , ВКонтакте, Одноклассниках
Источник: theoryandpractice.ru/posts/9289-pravo-na-roskosh
Будучи изначально результатом контраста, роскошь проявляет и выражает себя лишь при условии нехватки чего бы то ни было. Поэтому коль скоро в каждом обществе в каждую эпоху нехватка своя, то и роскошь тоже своя, причем одно не существует без другого. За исключением редких случаев физиологического свойства (голод, холод), эта нехватка может проявиться лишь в определенной форме, в которой содержится информация о ней, она подчинена законам социальной логики и структурирована особым социальным пространством. Именно на фоне межличностных отношений проявляются адекватность или неадекватность средств и целей; именно способ производства и распределения богатства определяет достаточность или недостаточность имеющихся ресурсов по отношению к их желаемому количеству.
«Трата — это закон, она необходима для поддержания общинного равновесия и сплоченности»

То есть нехватку нельзя рассматривать только как некую биоантропологическую неизбежность, существующую еще до того, как стал производиться продукт (который позволит преодолеть уровень физического выживания, постепенно создавая излишек материальных благ), она также следствие и результат этого производства продукта, который стал ее причиной в условиях, к примеру, рыночной экономики, где недостаток чего-либо чувствуется тем отчетливее, чем легче его объяснить и подсчитать. Излишек может обнаружиться в «лишении и бедности», а нехватка чего-либо при очевидном «изобилии».
Пока все обладают одинаковым количеством материальных благ, нет ни богатых, ни бедных, нет власти, которая может заставить одних работать на других. Но едва только будет преодолена эта стадия всеобщего равенства, когда для физического существования достаточно элементарного обеспечения потребностей, едва только две руки смогут производить больше, чем в состоянии съесть один рот, появившийся излишек может стать объектом вожделения, ставкой в игре и целью захвата (особенно если речь идет о средствах производства).
В перспективе это приводит к установлению иерархии и разделению труда, возникновению чувства неудовлетворенности, осознанию такого понятия, как «нехватка», и его институционализации. Таким образом, потребность — это уже не зависимость человека от природы, а утверждение господства одного над другими.
Разумеется, приходит в голову знаменитое объяснение первобытного механизма возникновения порочности человека и безнравственности целых народов: «Первый источник зла — неравенство; из неравенства возникли богатства <…>. Богатства породили роскошь и праздность, роскошь породила Искусства, а праздность — Науки».
Также можно вспомнить Торстейна Веблена, который в «Теории праздного класса» объяснил, что существование определенного уровня богатства и излишка в экономике способствует появлению социального разделения, которое, в свою очередь, выражается в том, что одни трудятся, другие тратят (время — от праздности, материальные блага — от их избытка). Тем не менее излишек может также «распыляться» — через перераспределение (поскольку вождь или группа, у которых сосредоточено богатство, своим положением обречены на расточительство) или через отношения на основе взаимности (тройное обязательство: давать, получать, возвращать), а еще этот излишек может «самоуничтожиться» через свое жертвенное разрушение.
В каждом из этих случаев трата — это закон, она необходима для поддержания общинного равновесия и сплоченности. Как бы то ни было, для членов одного сообщества, избавленных от необходимости трудиться ради выживания — воинов, священников, политических вождей, — отличительным признаком является «роскошь», которой требует их положение, и, для того чтобы заставить себя признать, им необ ходимо проявить себя через эту самую «роскошь», через показное расточительство этого излишка, оказавшегося у них в руках.
В условиях ограничительной экономики, которая характеризуется выраженным социальным неравенством, привилегии, дарованные отдельным людям, дают возможность остальным созерцать чудеса богатства и красоты, сосредоточенные в одних руках: пышные торжества, ненужные постройки, расточительные празднества, зрелища и излишества, которых ждут, требуют, к которым стремятся даже те, кто не может себе этого позволить и просто наслаждается их созерцанием.
Предъявлять доказательства своего существования через блеск и изобилие — обязанность любой власти. Богатые и могущественные должны украшать жизнь, расцвечивать ее, преображать, смягчать ее грубость и суровость. Эта потребность поражать, пусть даже только внешне, хоть в чем-то, хоть изредка, — укрепляет священные социальные связи, порождает сильные эмоции, вызывает чувство сопричастности, единения, воодушевления и позволяет украсить жестокую и прозаическую повседневность.
До тех пор пока иерархия положений и возможностей будет казаться естественной или зависящей от божественной воли, роскошь будет восприниматься как нормальное проявление богатства, доставшегося, разумеется, меньшинству, но для того, чтобы это самое меньшинство его выставляло напоказ и потребляло на глазах у всех. Причем делается это нарочито демонстративно: «<…> народом управляют не при помощи постановлений, не здравыми приказами. Необходимо внушить почтение, обратившись к его чувствам, доказать свою власть, подчерк нув отличительные признаки Монарха, Судейского сословия, Служителей культа.
Необходимо, чтобы сам их облик свидетельствовал о могуществе, о доброте, основательности, святости, о том, каким бывает или каким должен быть представитель определенного класса, Гражданин, облеченный неким званием и саном <…>». В этом смысле вели колепие средневековых королей и высоких вельмож возмущало неимущих крестьян нисколько не больше, чем погребальная пышность фараоновых пирамид раздражала скромных феллахов.
Феодальная рыцарская роскошь (богатые доспехи и упряжь, турниры и парады) или роскошь религиозная (величие соборов, великолепие церковного облачения, торжественные коронации и прочие празднества) знаменовали собой некий признак вызывающего уважение превосходства, которым любовались, пребывая в робком ослеплении. Священные чудеса возбуждают единые чувства и представления в мире, где теологические и светские власти объединяются и придают религиозную окраску всем формам общественной жизни.

Неразрывно связанная с такими явлениями как расточительство, дарение, гостеприимство, «щедрость» (преимущественно средневековая добродетель), роскошь, впрочем, производят, захватывают или получают лишь для того, чтобы символически «уничтожить», принести в жертву или «заморозить» в этом акте расточительства. А деньги, этот всеобщий эквивалент, предназначенный для обмена, презираются, как и торговля, эта neg-otium ig-nobilis (неблагородное занятие), которая накапливает, вместо того чтобы производить. Тратить, отдавать без счета, без оглядки — вот две стороны рыцарского идеала, идеала чести и славы.
Потому что трата своего достояния есть высшее проявление жизнеспособности, это не столько умение выразить наслаждение жизнью, сколько осуществление некоего долга. Можно отрицать, отвергать материальную выгоду, однако великодушный жест словно принуждает того, кому предназначен дар, к благодарности и признательности, а даритель становится почитаемым и уважаемым. Покровительство и сплоченность против верности и преданности: обложение оброком со стороны феодального сеньора предполагало его превосходство, а также признание вассалом, гостем или слугой своего зависимого положения.
Щедрость, вмененная в обязанность положением, а не Государством, верой, а не правом, в той же степени, что и подаяние, посредством которого растраченная роскошь находит себе оправдание и даже идеализируется, укрепляет магию власти, ее престиж, подчиняет зависимого человека и заставляет уважать уже установившуюся иерархию больше, нежели грубое господство.
На самом деле, в средневековом обществе все принесено в жертву зрелищности. Словно желая отвлечься от катастроф, угроз, опасностей, между двумя войнами, двумя неурожайными годами, двумя эпидемиями чумы, замок, церковь, мост, площадь, весь город становятся декорациями для игр и празднеств, шумных, ярких, воплощением живой эстетики и вездесущей театральности. Бродячие музыканты, вожаки медведей, различные шествия: повсюду, где есть место общественной жизни, разворачиваются некие сценические действа, которые, прерывая течение серой обыденности, становятся для общины поводом прославить свое существование и право на существование. Уличный, открытый для всех праздник, тоже общинный, собирает всех людей чаще всего вокруг каких-нибудь спортивных или военных торжеств — это страсть дворянства, чья физическая сила и ловкость должны напоминать всем о его военном предназначении.
Укрепление королевской власти и абсолютизма, возвышение принцев и придворных, утверждение рыночного капитализма и становление Государства станут понемногу менять эту расточительную или необузданную роскошь, сглаживать ее бурление, смягчать шероховатости, добавят ей великолепия или придадут совсем иное великолепие. Роскошь эпохи Возрождения с ее дерзостью, чувственностью, символизирующая неистовство и одержимость, затем роскошь барокко и классицизма с их законами против чрезмерных расходов, когда на первый план выйдет фигура короля, чья роль станет по преимуществу политической, а на второй план отныне отойдет то, чем он был в Средние века: почти исключительно фигурой религиозной и военной.
Разумеется, знаменитый парад на Поле золотой парчи, когда в 1520 году молодые короли Франции и Англии соперничали в великолепии и могуществе, еще имеет черты «потлача» в первобытном обществе или феодального турнира; но он, беря за образец утонченность и изысканность двора Блуа, уже возвещает о неслыханном торжестве меркантилизма, а главное, обретает свой язык, свой набор символов, по которым «высший класс», объединив понятия «быть» и «иметь», научится распознавать себе подобных и дистанцироваться от пошлого и вульгарного.
Вскоре на смену Нотр-Дам придет Версаль. Политическая власть будет стремиться слиться с личной властью. За притягательностью высокого положения, за символической фигурой монарха появится существо из плоти и крови. Отныне именно король станет выразителем силы, гарантией защиты и благополучия, но он же будет расточать милости как доказательство этой защиты и этого благополучия. Король, «благородный» и «величественный», сделается отныне источником всякого изобилия. Вот почему его физическое тело окружит себя пышностью, которая будет свидетельствовать, в каком-то смысле, о богатстве «общественного тела» — даже если великолепие этого символического богатства будет контрастировать с бедностью простого народа, вынужденного ежедневно бороться за существование, даже если это обращенное в ритуал богатство будет воодушевлять лишь отдельную, обособленную культуру.
«Роскошь, призванная создать культ королевской власти и восстановившегося единения, сама себя лишает священного характера по мере того, как перестает выставляться напоказ с единственной целью: показать, что она ниспослана провидением»
Дело в том, что в этой театрализации, подпитываемой аллюзиями и намеками, непонятными для непосвященных, Двор играет все более важную роль: он посылают монарху свой лучезарный образ, излучает сияние и великолепие, пленяет народ, вместе с тем отдаляясь от него. Двор постоянно присутствует при Людовике XIV как подтверждение его главенства после оспаривания монархических прерогатив эпохи Фронды, но при этом и как подтверждение самого себя, своего престижа и своих привилегий при помощи этикета и безудержного роста расходов. Ибо придворной знати, лишенной корней и ослабленной нахождением возле трона, необходимо, по крайней мере, доказать свое превосходство делами, которые ее прославят.
Освобожденная вдобавок от множества административных и политических функций, она отныне может поддерживать репутацию лишь расточительством, лишь способностью тратить, выставляя напоказ свой образ жизни, свои хорошие манеры, свои костюмы и драгоценности, свои пиры и праздники. Отныне быть — это казаться, а еще демонстрировать то, чем ты являешься. Положение регулирует расходы, которые, в свою очередь, свидетельствуют о положении и зависят только от этого положения.
Показывать и самому быть на виду. Игра в «хвастовство». Призрак целой вселенной огней, где зрение становится важнее всех остальных чувств, а еще приобретается новый опыт: то, что казалось привлекательным, оставляет ощущение разочарования, желание оказывается неудовлетворенным, а за стремлением ослеплять и восхищать все отчетливее осознается тщетность всего сущего и обманчивость всего видимого. Притом что и без того униженный идеал рыцарства окажется окончательно растоптанным, усиление абсолютизма и укрепление Государства лишь обострят это разочарование и станут причиной нравственного пессимизма.
В противовес аристократическому «я» возникает заслуживающее внимания направление: мыслители, писатели, в той или иной степени пропитанные янсенистской теологией, способствующей, как очень точно подметил Поль Бенишу, «развенчанию героя» и вместе с тем культивирующей подозрительное отношение к демонстративной расточительности. Так Паскаль изобличит проявления показной роскоши и великолепия — это всего лишь ухищрения, чтобы спрятаться от самого себя и одурачить других; а Ларошфуко наглядно объяснит побудительные мотивы щедрости и гордости — это всегда проявления самолюбия или маски, в которые оно рядится.

Впрочем, роскошь, призванная создать культ королевской власти и восстановившегося единения, сама себя лишает священного характера по мере того, как перестает выставляться напоказ с единственной целью: показать, что она ниспослана провидением.
Стимулирование промышленности и торговли, поддержка меценатства усиливают, разумеется, власть суверена и повышают престиж дворянского сословия. Но в то же самое время эти явления содержат в себе аспекты, которые невозможно контролировать политической волей, несут отпечаток утилитарности или, напротив, искусственности, служат удовольствиям более эгоистичным. Иными словами, с течением веков в искусстве показных эффектов и потреблении излишков появляются новые оттенки: развлечения и тщеславие становятся важнее, чем доказательства славы монарха, ненавязчиво свидетельствующие о его величии. Но эта мирская, светская роскошь (плод более вещественной цивилизации, которую стимулируют «кольбертизм»(одно из названий меркантилистской политики, которую проводил во Франции в XVII в. Ж.-Б. Кольбер) и плавный подъем рыночной экономики) свидетельствует о еще более глубоких переменах.
Между дворянством, которое этой роскошью пользуется, и торговой или ремесленной буржуазией, которая этой роскошью снабжает, с согласия короля заключено молчаливое соглашение: торговцы и ремесленники, живя в своем мире тяжелого труда и рабочего пота, должны лихорадочно производить на свет элегантные костюмы, изысканные кушанья, величественные жилища, изящную мебель и ковры; придворные, пребывая в своем мире аристократической праздности, должны, потребляя все это великолепие, поддерживать его производство, словно ставить на технические качества товара печать своего высочайшего одобрения.
Вся эта роскошь, которая сосредоточивается в руках одного сословия, становится причиной все более и более ожесточенного соперничества в престиже и приводит к очередным безудержным тратам, заставляя все глубже влезать в долги. Тем более что конкуренция растет, как подчеркивает Сен-Ламбер: «<…> поскольку успехи торговли, промышленности и производства предметов роскоши создали, если можно так выразиться, новый тип богатства, что сделалось причиной разобщения среди простонародья, люди, привыкшие почитать роскошь у своих Господ, стали его почитать и у равных себе; Великие мира сего сочли, что исчезла иерархия, возвышающая их над народом, им, дабы сохранить отличие, пришлось увеличить расходы». Вот почему, в то время пока торговцы и ремесленники обогащаются, дворянская роскошь выглядит не как настоящее богатство, а как попытка скрыть свое разорение, «придворную нищету», о которой писала Мадам де Севинье. «У них никогда нет ни единого су, но все они путешествуют, участвуют в походах, следят за модой, их можно увидеть на всех балах, на всех курортах, на всех лотереях, хотя бы они при этом и были разорены <…>.
Знаменитая сцена, когда Людовик XIV оказывает в Марли почести банкиру Самюэлю Бернару, у которого настойчиво просит ссуду, свидетельствует о том, что ситуация изменилась кардинально. Теперь не столько происхождение, сколько деньги дают право на роскошь. Роскошь начинает все больше проявляться в богатстве движимого имущества, а не только недвижимого именно в те времена, когда первый вид богатства начинает вытеснять второй, когда право на землю уже не сопутствует, как прежде, власти над людьми; когда престиж благородного происхождения начинает уступать престижу коммерческого или финансового влияния.
Так что второе сословие тоже станет стремиться приобрести — через брак, заем, продажу ленных владений, должностей, титулов — движимое имущество, ценные бумаги, хотя к ним и относились с презрением, между тем как богатый человек «без положения в обществе» будет стремиться утвердить свое возвышение через возведение в дворянство.
Приоритет рождения, происхождения, благородных кровей, приоритет «бескорыстной» службы государственным интересам понемногу ослабевает, зато гораздо важнее становится приращение личного состояния, погоня за роскошью, которая выставляет себя напоказ, в ней все больше сладострастия и тщеславия. Об этом заявляют и Церковь, и моралисты, такие как Лабрюйер или Фенелон. «Страсть приобретать блага ради тщеславного роскошества развращает чистые души, — отмечает Фенелон, — теперь важнее быть богатым, бедность сродни бесчестью. Будьте учены, умелы, добродетельны, просвещайте людей, выигрывайте баталии, спасайте отечество, жертвуя собственными интересами: вас станут презирать, если таланты ваши не будет огранены роскошью и великолепием».
Богатство и его проявления, занимая все более значимое место и став целью все более многочисленных слоев населения, отделяются от таких понятий, как «общественное положение», «титул», приобретают самостоятельный статус и покушаются на священную природу социальных связей, на законность самой власти. Бедняк, который прежде принимал как должное свое положение по отношению к сеньору, обладающему божественным правом, отныне ощутит успех нувориша как несправедливость, необоснованное везение, почувствует отвращение или зависть к его вызывающей, дерзкой роскоши, лишенной своей харизматической составляющей, своего божественного оправдания. А представитель древнего дворянского рода, которому станут подражать всякого рода удачливые разночинцы: негоцианты, откупщики, работорговцы, члены парламента или финансовая верхушка, сможет принять вызов роскоши, лишь рискуя еще больше погрязнуть в долгах, и это он, у которого суть жизни сведена к потреблению в чистом виде, потреблению ради почета и удовольствия, который не должен унижать себя производительным трудом, опускаться до подсчетов и накоплений. Как рассуждает Лабрюйер: «Упадок людей судейского и военного звания состоит в том, что свои расходы они соразмеряют не с доходами, а со своим положением».
Разумеется, можно попытаться через порядок слов восстановить порядок вещей: пышность двора Людовика XIV — это не роскошь Фуке. Об этом нас предупреждает Никола Деламар: «Пышность отличается от роскоши тем, что пышность не расходится со здравым смыслом, с правилами приличия: если принцы и вельможи выступают во всем своем великолепии, если они позволяют себе быть расточительными, то это всегда соответствует их высокому положению и доходам; это великолепие даже необходимо, чтобы поддерживать статус благородного происхождения, внушать уважение простолюдинам, покровительствовать торговле и искусству, в изобилии вливая туда огромные суммы, которые для их собственного состояния были бы бесполезны; следовательно, пышность — это добродетель. В роскоши, напротив, нет ничего, кроме амбиций и тщеславия <…>».
Законы против роскоши и чрезмерных расходов, как и правила этикета, имеют своей целью сдерживать эти движения, сходные и конкурирующие, экспансивные и расслабляющие, симптомы все возрастающей социальной мобильности. Потому что протекционистские и запретительные законы имеют целью не только помешать экспорту денежных средств, но и сохранить привилегии «роскоши», защитить аристократическое отличие и обличие, каждому указать его место, утвердив внешние признаки каждого сословия.
«Своенравие давало цену самым пустым вещам; всякий, не пользующийся ими, хотел казаться наслаждающимся, потому что полагал таковыми других; не имея страсти, каждый старался говорить языком страстей, и самая ложная сия страсть была весьма чудной»
Но эти преграды весьма ненадежны и, как свидетельствует образ Мещанина во дворянстве, их легко преодолеть. И если королевский абсолютизм смог на какое-то время сдерживать это явление, оно вновь проявит себя к концу правления Людовика XIV, когда «цивилизация морали» покинет глянцевое, официальное убранство Версаля и расцветет в частных особняках, когда все эти атрибуты перестанут быть принадлежностью одного лишь дворянства, и оно окажется предоставлено самому себе, своим сомнениям, своему цинизму, своим разочарованиям, в условиях общественного порядка, трагически лишенного божественной обоснованности.
Как писала маркиза де Мертей у Шодерло де Лакло: «Роскошь поглощает все: ее порицают, но приходится за нею тянуться, и в конце концов излишества лишают необходимого». Что остается человеку, который, пребывая в мире, из которого ушла вера, чувствует ничтожность своего существования, что остается ему, кроме как бежать самого себя, искать забвения в играх и фейерверках вселенского увеселения? Эта будет победа личной морали собственного удовольствия над общественной моралью королевской службы; перерождение престижа «быть» в престиж «обладать»; разрушение «величия» в пользу «обладания»; триумф денег ради денег, ставших отныне мерой всего, благодаря которым можно нравиться и наслаждаться.
И все это через роскошь, сделавшуюся окончательно светской, материалистической, просчитанной, которая служит только корысти, удовольствиям и самолюбию; через необузданную моду, когда магия легкомысленного и культ эфемерного приходят на смену вековым признакам монархического порядка, когда Город затыкает за пояс Двор, когда превосходство аристократических символов хотя и продолжает существовать, но становится иллюзорным — поскольку отныне только богатство может сделать их видимыми, а власть денег сменила правовые привилегии.
Особняки, сады, кортежи, книги, картины, статуи, безделушки; праздники, пиры, любовницы, экипажи, танцовщики, артисты; а еще платья, драгоценности, часы, табакерки — все, что окружает человека, обрамляет его самого или его образ, соперничает в изысканности и блеске. «Сегодня, когда роскошь повсюду, а деньги решают все, все смешалось в Париже <…>», — отмечает адвокат Барбье.
Суровое соперничество, тем более что охватывает оно все новые и новые социальные группы; алчное присвоение, тем более что касается оно вещей все более эфемерных, чье быстрое распространение обнаруживает и доказывает неспособность надолго удержать их ценность, бессильные попытки отвлечься от беспокойства, неудовлетворенности и скуки. «<…> поскольку только через большие расходы можно было сделаться известным, то все состояния оказываются в беспорядке, и все сословия, силясь все больше друг от друга отличиться, самым сим усилием себя смешивали. По чрезвычайному беспокойству всякий показывал обширные желания, а по суетности, которой удовлетворялся, казались все не имеющими желаний.
Своенравие давало цену самым пустым вещам; всякий, не пользующийся ими, хотел казаться наслаждающимся, потому что полагал таковыми других; не имея страсти, каждый старался говорить языком страстей, и самая ложная сия страсть была весьма чудной. Всякое пристрастие происходило лишь от повиновения законам своенравной моды, которая, будучи единственным правилом для вкуса и чувств, предписывала каждому все то, что он должен желать, говорить, делать и мыслить; мыслить было последним действием».опубликовано
Перевод с французского: А. Смирновой.
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание — мы вместе изменяем мир! ©
Присоединяйтесь к нам в Facebook , ВКонтакте, Одноклассниках
Источник: theoryandpractice.ru/posts/9289-pravo-na-roskosh
Портал БАШНЯ. Копирование, Перепечатка возможна при указании активной ссылки на данную страницу.
Ростовская фирма планирует наладить выпуск ветрогенераторов на экспорт
История котенка, найденного на дороге штата Флорида