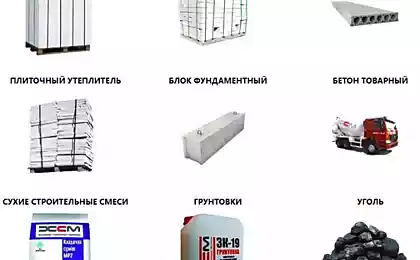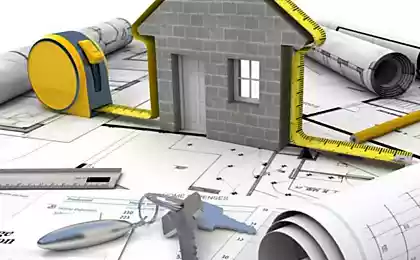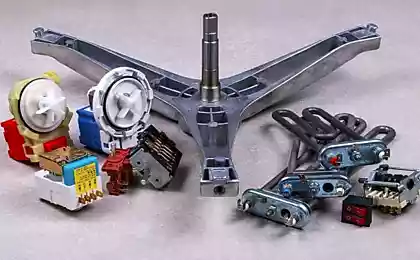273
2016-09-20
Китайская модель роста: был ли прав Рикардо?

Ullens Center for Contemporary Art
История знает множество экономических чудес, из которых в итоге ничего не получалось. Экономист Георг фон Вальвиц анализирует историю Китая, где рост экономики стал возможен, потому что его правительство не повелось на «рикардистский трюк», согласно которому достаточно лишь открыть границы, как благосостояние вырастет само собой. Однако финансирование с помощью цен на недвижимость может привести к тому, что этот пузырь в скором времени лопнет.
А как сегодня обстоят дела с учениями классиков? Рикардо занимает заметное место в каноне классиков экономики. Всем известно, что он что-то значил, он упоминается во всех учебниках, но конкретика в этом знании встречается редко, поскольку, если быть точным, Рикардо, в отличие от Адама Смита, был важен только для XIX века, и историками культуры иногда овладевает недоброе чувство, что он и интересен был лишь постольку, поскольку Маркс многое у него списал. Но было бы неправильно утверждать, что одна дохлая собака поддерживает жизнь другой, это несправедливо по отношению к обоим и, кроме того, полностью игнорирует их принципиально разный подход к обращению с миром: один хотел изменить мир, другой хотел от него что-то получить. Но оба все-таки важны главным образом для позапрошлого века, ибо в XX веке состояние науки ушло так далеко, что в обычных текстах они встречаются разве что в сносках, да и там занимают совершенно незаслуженное место. Надо бы им зачесть то, что они были беззащитны перед лицом своих сторонников (в случае Маркса это были приверженцы советской системы) или противников (иначе не назовешь позицию школы Кейнса по отношению к классикам), причинивших им такой урон, после которого от них действительно мало чего осталось. Но так уж вышло, история плохо обошлась с обоими, а лагеря их последователей отвешивают реверансы по сей день скорее из чувства долга, чем из внутреннего убеждения, скорее чтобы создать историю и глубину собственной традиции, чем для того, чтобы привлечь внимание современников к их идеям.
Насколько мертвы обе дохлые собаки, можно судить по китайской модели роста. Китай после культурной революции обнаружил пред собой груду экономических и моральных руин, и ему пришлось начинать все сначала. В лице Дэн Сяопина Китай имел вождя, который во многих битвах и войнах досконально изучил все высоты и глубины жизни и на старости лет стал прагматиком. Апеллировать к Марксу он больше не хотел, но и к идеям Рикардо тоже не обратился, поскольку в принципе был равнодушен к системам.

© Bruno Barbey

© Bruno Barbey
Китайская модель, запущенная Дэном, ориентируется по большей части на идеи, противоположные Рикардо. Теория сравнительных преимуществ, с помощью которой англичане заставили португальцев менять драгоценное вино на дешевое полотно, не казалась Дэн Сяопину перспективной. Может быть, и имело смысл какое-то время обменивать сельскохозяйственные продукты на продукты промышленного производства, но придерживаться этого всегда было бы не очень умно, ибо это означало бы, что индустриализация оставалась закрепленной лишь за некоторыми немногими странами. Китай гораздо охотнее следовал рекомендациям Александра Гамильтона, первого министра финансов США, который в своей знаменательной речи перед конгрессом в 1791 году ратовал за переход от сельского хозяйства к индустрии и не хотел довольствоваться тем, что сравнительные преимущества распределяются статично. Преимущества можно и заработать своим трудом, точно так же как и потерять их. Гамильтон аргументировал, что необходимо стимулировать промышленный труд, поскольку промышленность дает полезные вещи: оружие и механизмы, — и является производительнее, чем сельское хозяйство. Она не знает вынужденных перерывов, связанных с зависимостью от дневного света или времени года, и благодаря внедрению машин и механизмов многие работы могут выполнять также женщины и дети, у которых до сего момента было слишком много свободного времени. Поэтому индустриальное общество создает самое высокое благосостояние, и было бы безрассудно надолго оставаться лишь экспортером пшеницы и хлопка. Соединенным Штатам пришлось приложить усилия, чтобы построить собственную промышленность, которая не уступала бы английской, и государству при этом надо было играть активную роль, а не просто наблюдать за происходящим.
Китай не хочет длительное время служить инструментом в руках индустриальных наций и оставаться чем-то вроде официанта там, где он способен стать хозяином заведения.Плохое состояние, в котором Китай находился в конце 1970-х годов, убедило Дэн Сяопина не быть слишком щепетильным в выборе экономического образца и не бояться гамильтонской рекламы детского труда и производства оружия (и то и другое тогда считалось результатом благих намерений). С тех пор Китай старается ликвидировать отставание. Свободная торговля, которую еще Рикардо рассматривал как источник всеобщего благосостояния, в глазах китайского плановика является, скорее, средством подавления, которым Запад пытается закрепить за собой преимущество, достигнутое из-за исторической случайности. Китай не хочет длительное время служить инструментом в руках индустриальных наций и оставаться чем-то вроде официанта там, где он способен стать хозяином заведения. Прибыль фирмы Foxconn, которая собирает в Китае айфоны, айпэды, киндлы, планшеты, игровые приставки и т.д., составляет от силы четверть того, что получает ее заказчик. Кто изобретает продукты, кто выводит их на рынок и продает, тот и зарабатывает деньги. А кто занимается их сборкой, того можно заменить. Благосостояние — вкупе с большей частью добавленной стоимости — остается у заказчика.
Чтобы освободиться из этого положения, Китай позволил Марксу и Рикардо стать «хорошими парнями» и действует следующим образом. Самое легкое упражнение — манипулирование валютой. Власти утверждали, что китайская финансовая система, как в любой развивающейся стране, нестабильна и поэтому необходимо контролировать приток и отток денег. Приятный побочный эффект — возможность держать низким обменный курс собственной валюты и благодаря этому сделать производство в своей стране дешевым, а потребление иностранных продуктов дорогим. Если отечественные товары дешевы и популярны, а заграничные дороги, то люди работают больше и расходуют не так много, то есть пребывают в кальвинистском раю. Германия проделала это после Второй мировой войны и стала чемпионом мира по экспорту благодаря низкому курсу немецкой марки в 1950-е годы. Кто производит дешевле всех, может ниточка за ниточкой выткать сеть фабрик и получать внутри страны всебольшую часть добавленной стоимости. Китайцы делали это по образцу немцев, пока их — как и немцев в свое время — в целом терпеливые США не заклеймили как манипуляторов. И больше китайцы не могли прятаться за своей отсталостью. Тогда легкие прибыли остались позади, и препятствовать свободной торговле стало труднее.

Дэн Сяопин и его жена Чжо Линь
Поскольку теперь в стране уже организовалось много производств, а вместе с ними и специальных знаний, самым естественным ходом стало красть интеллектуальную собственность — в конце концов теперь уже было известно, что с ней делать. На этом этапе развития Китай тоже опирался на США и Германию, которые в начале XIX века поглядывали на Англию наловчились заимствовать там лучшие идеи. Кто больше не может и не хочет производить только дешево, должен иметь лучшие товары, а для этого надо использовать идеи, которые самостоятельно все не породишь. Поневоле приходится смотреть на лидеров рынка, и в итоге модели молодых китайских автомобильных фирм пока что похожи на «Фольксваген». Но рано или поздно даже самый добродушный торговый партнер разгадывает эти хитрости и жалуется правительству, которое хотя и постепенно, якобы из благих намерений, но все-таки рекомендует своей индустрии в производстве товаров больше опираться на отечественную культуру.
Параллельно приводится аргумент Infant-Industry (несовершеннолетней индустрии), тоже пущенный в оборот Александром Гамильтоном и закрепленный в теоретическое понятие вюртембергским экономистом Фридрихом Листом (1789–1846). Это оградительные таможенные пошлины для молодой индустрии, которая нуждается в особой протекции государства, поскольку она еще маленькая и слабая. Подвергнуть ее жестокой логике рынка было бы бессердечно и прямо-таки враждебно прогрессу, ибо как может пробиться в джунглях нежный росток? Там большие не позволяют меньшим расти, а кто хочет позволить новым идеям эволюционировать, должен дать им воздух для дыхания и свет для жизни. И таким образом для защиты слабых, что само по себе звучит приятно на слух, вводятся оградительные таможенные пошлины — не для того, чтобы обогатить государство или навредить иностранцам, ни о чем таком официально никто и не помышлял. Оградительные таможенные пошлины будут существовать лишь до тех пор, пока китайские предприятия не достигнут технологического или ценового лидерства. Правда, это ожидание может продлиться долго, с чем загранице придется бессильно примириться и довольствоваться теми сегментами рынка, которые правительство откроет для настоящей конкурентной борьбы.
Но тут есть проблема. Недостаточно подкармливать дотациями собственную индустрию до тех пор, пока она кажется ранимой, и охранять ее от конкуренции. Она становится от этого сытой и вялой задолго до того, как достигнет чего-то заметного, она удобно устраивается в своем гамаке и чувствует себя окруженной страховочной сеткой государственной благосклонности (так было недавно и с немецкой индустрией солнечных батарей, любимым ребенком политиков). Поэтому трюк с оградительными таможенными пошлинами слишком часто не дает результата, если эти пошлины затуманивают дух предпринимателя, а собак на охоту приходится нести на руках. Нельзя допускать, чтобы ограждение от внешней конкуренции привело к тому, что конкуренции не было бы вообще. Если, например, развивается лидер рынка, который достаточно велик, чтобы превзойти всех отечественных конкурентов, но слишком вял, чтобы быть способным к международному соревнованию, то дотации — просто подаренные деньги. Национальное соревнование должно быть беспощадным.
Все крупные фирмы получают дешевые деньги от государственных банков, куда китайцы вынуждены — из-за контроля за движением капитала — класть свои деньги под гротескно низкий процент.В Китае (полу)государственные предприятия поощряются государством, насколько это возможно. Стеклянная промышленность получает свое сырье за бесценок, поставщики автомобильной промышленности получают сталь и технологии ненамного дороже (28 миллиардов долларов ушло на дотации за десять лет, начиная с 2001 года). Бумажная индустрия получила между 2002 и 2009 годами дотации в размере 33 миллиардов долларов. И так далее. Эту дружескую поддержку получают не только старые государственные предприятия, но и новые частные фирмы, — такие как Geely Automobile (дотации 2011 года: 141 миллион долларов) или China Yurun Food (84 миллиона долларов). Все крупные фирмы получают дешевые деньги от государственных банков, куда китайцы вынуждены — из-за контроля за движением капитала — класть свои деньги под гротескно низкий процент (намного ниже темпов инфляции); таким образом эти дотации не отражаются в официальной статистике, а передаются напрямую от населения предприятиям.

© Bruno Barbey

© Bruno Barbey
Во что могут превратить предприятие дотации, показывает пример Wuhan Iron & Steel, четвертого по величине в Китае сталелитейного предприятия, которое положилось на множество добрых друзей в партии и государстве и всегда могло рассчитывать на руку помощи, хотя фирма давно уже вышла из «детского возраста». Ее бизнес-модель незаметно претерпела изменения, и хотя она все еще производит сталь, но между тем обнаружила, что вообще-то может сберечь усилия, если сосредоточится на том, что умеет лучше всего: на привлечении дотаций. Так Wuhan Iron & Steel пришла к мысли инвестировать 4,7 миллиарда долларов в производство свинины. Такая фирма, как Wuhan, очень хорошо работает в разных областях, а в сельское хозяйство направляется очень много государственной помощи. Что в такой ситуации может быть логичнее диверсификации в сторону обработки земли и животноводства? Правда, речь тут не идет ни об эффективности, ни об экспертизе, а делается это все не для того, чтобы повысить благосостояние Китая, а оправдано лишь выгодой самой фирмы и ее акционеров. Вот что государство может получить, когда слишком балует свои фирмы. Г. Вальвиц имеет ввиду прагматический совет предпринимателя Лопахина разбить вишневый сад на дачные участки, чтобы избежать разорения, которые не захотели слушать герои пьесы Чехова.
Кстати, немцы после Второй мировой войны сделали это гораздо лучше. Бесчисленные средние компании находились между собой в беспощадном состязании, которое понуждало предприятия к постоянному обновлению техники и производственного процесса. Так выработалась культура осмысления затрат, которая еще усилилась в следующей фазе непрерывной ревальвации немецкой марки и которая сегодня в глобальном соревновании является огромным преимуществом. В Китае менеджмент зачастую слишком много думает о том, как бы подобраться к дотациям, тогда как в Германии на первом плане стоит продукт, а государственная помощь, как правило, лишь вишенка на торте. Так многие фирмы привыкли к своим дотациям и оградительным таможенным пошлинам, и в правительстве никто не усвоил урок из «Вишневого сада» о том, насколько тяжело расставаться с привилегиями.
Но вот что китайцы умеют делать лучше, чем немцы, — это обращаться с зарплатами, которые повышаются еще до того, как страна действительно оказалась в первой лиге. Западная Германия после войны имела возможность держать зарплаты низкими, поскольку до возведения Стены постоянный приток мигрантов с Востока заботился о том, чтобы безработных всегда хватало. Тем самым страна следовала вычитанному у Смита и Рикардо учению, по которому низкие зарплаты — благо для экономического роста, укрепляющее конкурентоспособность на международном уровне. Но Китай — подобно США в XIX веке — вот уже несколько лет как отказался от использования новых необученных рабочих из нецивилизованных западных провинций ради дешевизны продукции. Повышение зарплаты на 25%, как в 2012 году у Foxconn, не рассматривается как ослабление конкурентоспособности. Китай оценивает такое развитие скорее как позитивное — как принуждение промышленности к повышению конкурентоспособности путем инноваций и как средство стимуляции отечественного потребления, без которого экономика не может иметь среднесрочного роста. Страна пытается сбалансировать рост спроса между потреблением и инвестициями, что не только звучит разумно, но и неизбежно, если иметь в виду размеры Китая и число его жителей. Но переход к менее экспортозависимой и больше базирующейся на отечественном потреблении экономике, к слову сказать, будет не так прост.

© Bruno Barbey
Итак, этими средствами, которые противоречат всему учению Рикардо о свободной торговле и нищенской зарплате, Китай пытается перестроить свою экономику — прочь от сельского хозяйства к гораздо более продуктивной индустрии, чтобы поднять до приличного уровня материальный уровень жизни страны. И это естественно, ибо история плохо отнеслась к попыткам прийти к благосостоянию путем безоговорочной открытости рынков. Такое удалось лишь торговым городам — таким как Сингапур или Гонконг.
Зрелище, какое представляла собой в последние годы Еврозона, пожалуй, лишь укрепило китайцев в выбранной ими модели роста. В Европе господствует полная свобода торговли, или по крайней мере что-то очень к этой свободе близкое. Тот энтузиазм, с которым в Евросоюз устремились страны Латинской Европы, ослепленные обещанием экономической респектабельности и низких процентов по кредитам, обернулся чистым безумием, продлившимся добрый десяток лет, чтобы затем превратиться в тотальный разлад и недоверие. Эти страны стали жертвой того, что мы назвали бы рикардистским трюком: купились на аргумент, согласно которому достаточно лишь открыть границы, как благосостояние вырастет само собой. Немцы — условно назовем так всю северную середину Европы от Вены до Хельсинки — заметили, как велики их преимущества из-за валютного союза, лишь тогда, когда для всех остальных было уже слишком поздно что-то менять. Что происходит с валютным союзом в зоне свободной торговли? Индустрия концентрируется там, где она имеет сравнительные преимущества. Это значит: там, где есть квалифицированные рабочие, умеренные зарплаты, хорошая инфраструктура, правовые гарантии и сеть поставщиков. Никому не пришло бы в голову открывать химическое или автомобильное производство в Греции, Португалии или Южной Италии, если его можно построить в Баден-Вюртемберге. Единственные козыри, которые есть в распоряжении менее развитых стран — а это оградительные таможенные пошлины, дотации, девальвация валюты, — в Еврозоне недоступны (и тем ценнее они оказались для китайцев). Так, в Германии производительность высока, поскольку там промышленное производство, а в Латинской Европе благосостояние возникает разве что в качестве иллюзии, на займах, на короткое время. Сравнительные преимущества устанавливаются раз и навсегда, латиноевропейцы могут конкурировать с немцами разве что путем радикальных инноваций или значительных трансфертных платежей. Но то и другое неправдоподобно.
Преимущества крупных концернов, привилегии для однопартийцев и слабое развитие частных институций вызывают у стороннего наблюдателя по крайней мере некоторое недоверие.Китайцы не попались на рикардистский трюк. Они выбрали классическое учение и больше доверились историческому опыту. Пока что у них все получалось хорошо, но и их нетрадиционная модель роста имеет определенные границы. Если они в скором времени не найдут рынок экспорта, перманентно готовый к приему, в какой-то мере эквивалент латиноевропейского рынка для германской экономики, то им нужно быть готовым к тому, что в той части экономики, которая производит инвестиционные товары, они вскоре понесут жестокие потери. Если рост упадет с 10% до 6% в год (что как раз правдоподобно), то инвестиции сократятся с 50% ВВП до 30%. Но тогда на чем-то скажется нехватка 20% ВВП, которую не так просто будет заменить из ничего. Вся система в настоящий момент стимулирует инвестиции, банки дают кредиты, партия и государство дают землю, дотации и защиту от конкуренции. Но отдачи от этого все меньше, инвестируемые сегодня доллары принесут отчетливо меньше прибыли, чем приносили еще десять лет назад.

© Bruno Barbey

© Bruno Barbey
Но, может быть, в Китае вскоре появится и другая проблема. Финансовая система приняла там форму, которая не сможет продержаться долго. Богатейший процент населения контролирует там состояние приблизительно в 2000 миллиардов долларов, это соответствует где-то двум третям огромных валютных резервов. Цены на землю колоссально выросли: в городах с 1000 юаней в 2002 году до 3130 юаней десять лет спустя (в среднем по всей стране). Участки под строительство жилья на Восточном побережье, переживающем бум, стоят сейчас местами в два раза дороже, чем в Лондоне, а за последние пять лет цена выросла в четыре раза. В Китае многое финансируется с помощью цен на недвижимость, через ссуды, взятые под залог этих экстравагантных цен. Сторонний наблюдатель не удивится, если и этот пузырь однажды лопнет. Дивясь чуду китайской модели роста, мы, таким образом, держим в уме, что в истории уже бывало много экономических чудес, из которых в итоге ничего не получалось. Преимущества крупных концернов, привилегии для однопартийцев и слабое развитие частных институций вызывают у стороннего наблюдателя по крайней мере некоторое недоверие, не меньшее, чем у коммунистической партии Китая вызывают учения Рикардо и Маркса. опубликовано
отрывок из новой истории развития экономических идей «Мистер Смит и рай земной. Изобретение благосостояния», вышедшей в издательстве Ad Marginem при участии музея «Гараж».
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©
Источник: theoryandpractice.ru
Портал БАШНЯ. Копирование, Перепечатка возможна при указании активной ссылки на данную страницу.