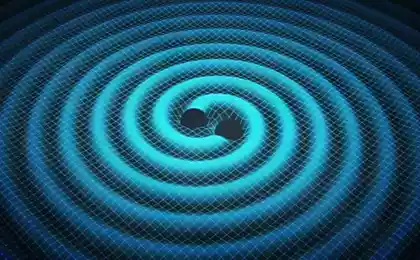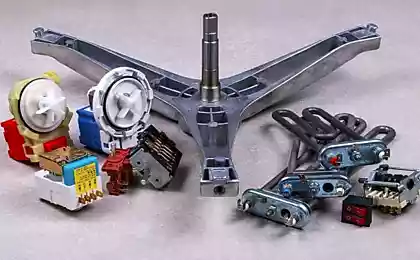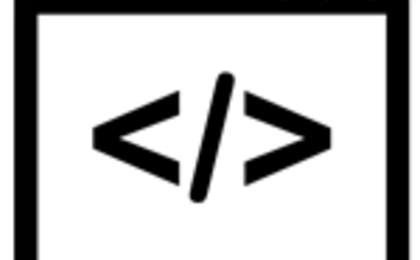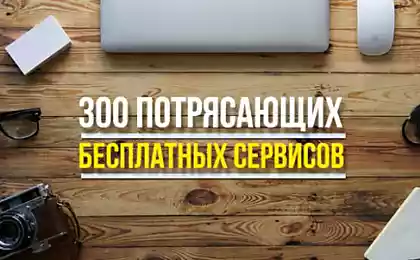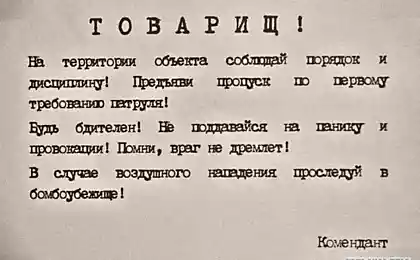868
0.2
2015-01-10
Работа военного кореспондента (4 фотографии)
Фотокорреспондент The New York Times Жуан Сильва рассказывает о своей работе спустя год после того, как он лишился обеих ног, подорвавшись на мине в Кандагаре.
«В ту самую секунду, когда я наступил на мину утром 23 октября 2010 года, я довольно трезво оценивал происходящее. Вокруг меня погибало столько людей, а у меня на руках умирали друзья — я не преувеличиваю, — что когда это произошло, я просто подумал: «Все ясно. Мой черед. Пора». Было ничем не примечательное утро — такое же, как всегда, когда выходишь с военными. Ничто не предвещало беды. В нас не стреляли. Обычный пограничный патруль. Солдаты, которые не попадают на страницы The New York Times, да и остальных газет тоже, по правде говоря. Таким вот было то утро.

Кандагар, район Аргандаб. Саперная группа — рядовой Лаплаунт (слева), сержант Максвелл (справа) и прикрывающий обоих сержант Уотерман (в центре) — идет впереди взвода, проверяя сельскую дорогу и окрестности Я был третьим в цепочке. Парень, что шел первым, вел служебную собаку. Следом за ним шел еще один, отвечавший за безопасность, а потом я. Собака ее не учуяла. Потом на нее наступили ребята, но ничего не произошло. А на мне она сработала. Я услышал механический щелчок. Я понял: это не к добру. Очнулся, уже лежа на земле лицом вниз, окутанный облаком пыли, с четким осознанием: только что взорвалась мина, ничего хорошего не жди.
Я увидел, что ног у меня больше нет, а всех вокруг охватила оторопь. Я сказал: «Ребята, помогите же мне». И они обернулись, увидели меня на земле и сразу взялись за дело. Оттащили меня из зоны поражения на пару метров. Тут уже подоспели медики и принялись за меня. Я взял в руки камеру, сделал несколько снимков. Откровенно говоря, они получились не очень хорошими, но я пытался фиксировать события. Я знал, что дела плохи, но чувствовал, что жив. Нахлынул адреналин. Я был в здравом уме и осознавал все, что происходило. Так вот, я сделал пару снимков. Потом выронил камеру и перешел к плану Б, который состоял в том, чтобы взять в руки телефон. Я набрал номер Вивиан, своей жены, и сказал: «У меня нет ног, но жить, наверное, буду». Кстати, у меня двое детей. Потом передал телефон корреспондентке, чтобы она поговорила с Вивиан и успокоила ее.
Потом я лег на спину, чтобы выкурить сигарету. Тем временем врачи лихорадочно делали со мной что-то: жгуты, уколы прямо в грудную клетку и еще масса совершенно прекрасных вещей. Эти ребята спасли мне жизнь. Приземлился вертолет, чтобы перевезти меня в безопасное место. До того как я оказался внутри вертолета, я пребывал в полном и абсолютном сознании. Там я наконец отрубился.
Со мной не случилось ничего нового. Журналисты погибают и получают увечья с незапамятных времен. С тех самых пор, когда кто-то впервые взял фотоаппарат на поле боя. И я имел несчастье оказаться в их числе. В тот день мне катастрофически не повезло, и в то же время повезло невероятно. Мина была прикована к бочке, в которой находилось примерно 15 килограммов самодельной взрывчатки, и по какой-то причине она не взорвалась. Случись этот второй взрыв, то, что от меня осталось, легко поместилось бы в спичечный коробок. Просто удивительно, какие сюрпризы иногда преподносит жизнь. Назови это божьим промыслом, назови удачей, да как угодно назови — я за это очень благодарен.

Группа обращает внимание на любые посторонние объекты, в том числе на взрывные воронки от ранее обнаруженных мин
Сейчас я в Центре Уолтера Рида (Военно-медицинский центр Уолтера Рида в Вашингтоне, крупнейший военный госпиталь США. — Esquire) Бывают дни, когда совсем не хочется вылезать из постели. Но каждый новый день убеждает меня в том, какой я счастливчик. Всегда найдется кто-то, кому еще хуже. Молодые двадцатилетние парни — а у них ампутировано по три конечности и гениталии, и им придется начинать жизнь заново. Это непросто. Тут много ребят, страдающих депрессией, они очень мучительно все это переживают.
Но это и воодушевляет — потому что учишься понимать: как бы тебе ни было плохо, кому-то еще хуже, чем тебе.
С тех пор прошло девять месяцев. Для профессии настали тяжелые времена. Особенно скверным выдался апрель. Мы потеряли троих друзей — Тима, Криса и Антона (Тим Хезерингтон, Крис Хондрос и Антон Хаммерл — военные фотожурналисты, погибшие в Ливии весной 2011 года. — Esquire). Ливия оказалась дамой с крутым нравом.
Наверное, пройдет еще год, прежде чем я полностью приду в норму. Пока же мне требуется еще немного смелости, немного выносливости и — если говорить начистоту — чуть больше лекарств, чем я в состоянии проглотить.
Когда я увидел, что у меня нет ступней, я не понимал, насколько это серьезно. Только чувствовал на каком-то инстинктивном уровне, что все будет в порядке. Я не знал, что при взрыве пострадал мочеиспускательный канал. Что у меня травмированы внутренние органы. Что поврежден задний проход и у меня развивается сепсис. Именно из-за этого я тогда чуть не умер. Борьба шла против бактерий, а не за ноги.
Обычно после ампутации до момента, когда ты уже стоишь на протезах, проходит около десяти недель. В моем случае речь шла о пяти месяцах, потому что мое тело продолжали атаковать инфекции. Врачам пришлось целиком восстанавливать задний проход и уретру. Семь месяцев я мочился в пластиковый пакет через трубку. К счастью, все это позади. Я все еще пользуюсь калоприемником, но последняя операция исправит и это.
Думаю, я достиг той стадии, когда снова являюсь единым целым. То есть, конечно, ног у меня больше нет. И они уже никогда не вырастут. Но знаете, это ничего. Правда, ничего. Я жив, я здесь. Жизнь еще не закончена.
Меня часто спрашивают: «Как ты можешь просто стоять и смотреть на людей, которые рубят друг друга, да еще фотографировать все это?» Но нужно четко понимать свою роль. Если хочешь помогать людям, не надо становиться фотографом. Хотя мы все-таки помогаем. Я не раз грузил раненых на заднее сиденье своей машины и мчался с ними в госпиталь.
Просто, к сожалению, образы иногда получаются настолько сильными, что кажется, будто за камерой — не человек, а машина. А это не так. Картинка, которую фиксирует глаз, тут же отпечатывается в сознании. И некоторые из этих картинок не покидают нас уже никогда.

Сержант Максвелл, ведущий на поводке служебную собаку, — кадр, сделанный Жуаном Сильвой за несколько секунд до взрыва
Мой ближайший друг Кевин Картер (южноафриканский фотограф, один из четверых участников содружества Bang Bang Club, в которое в начале 1990-х входил Сильва. — Esquire) в итоге покончил с собой. Он снял знаменитый кадр в Судане: в грязи, вниз лицом, лежит девочка, а ее караулит стервятник. Его очень критиковали за эту фотографию. Люди, у которых не было ни малейшего представления о том, что двигало им, когда он делал этот снимок, — они критиковали его до тех пор, пока он окончательно не запутался в своих внутренних противоречиях. Он покончил с собой через месяц после того, как получил Пулитцера.
Люди по умолчанию полагают: вот, бессердечный фотограф просто проходил мимо ребенка и нажал на кнопку. Вообще-то ребенок находился в нескольких сотнях метров от гуманитарной миссии с бесплатной столовой. Но в этом и есть сила фотографии. Ты выделяешь конкретный образ, и это позволяет его транслировать, а это был сильнейший образ. Он посылал весть о голоде. И внезапно, буквально из ниоткуда, в Судан потекли деньги. Сделав эту фотографию, он спас больше жизней, чем если бы не сделал ее. По ту сторону объектива — живой человек, и этот человек хочет получить послание, передать его миру и при этом уцелеть.
Я стал фотографом случайно. В школе я никогда не ходил ни в какие фотокружки. Мой приятель изучал графический дизайн, и одним из предметов у него была фотография. Однажды ему дали задание на тему скорости, движения. Он пошел вместе с нами на гоночный трек, чтобы сфотографировать машины, и тогда я подумал: «Так-так, а в этой роли я могу себя представить. Такое дело мне по вкусу».
Тогда я сделал свои первые в жизни снимки. И меня будто муха укусила. С этого самого момента я точно знал, чем хочу заниматься. Тогда как раз кончился апартеид, выпустили Нельсона Манделу, и всю страну затопила волна политического насилия — брутального, такого, что требует крупных планов. За четыре года в Южной Африке убили 15 тысяч, а то и все 20 тысяч человек, при этом не было ни танков, ни артиллерии. Все это происходило в моей родной стране, буквально за порогом моего дома, и я чувствовал необходимость быть там — все задокументировать и рассказать миру, что люди погибают.
Я начал перемещаться по Африке и столкнулся с массой других конфликтов. При этом надо сказать, войны — не единственное, чем я занимался. Я не люблю называть себя военным фотографом. Конечно, это моя специализация, моя страсть. Но побывать на войне — далеко не единственная обязанность настоящего фотожурналиста.
В Уолтер-Риде меня не тянуло фотографировать. Первые пять недель я находился в реанимации. Я был настолько накачан лекарствами, что помню тот период очень расплывчато. На операционный стол я ложился через день. Только через семь с половиной месяцев я смог встать с койки. Тогда меня отправили в Центр интенсивной реабилитации (отделение Военно-медицинского центра Уолтера Рида. — Esquire) для военных, где тренируются все моряки и солдаты с ампутированными конечностями. Сначала я ложился на кровать, и на ней меня поднимали на спортивный мат, где мы делали упражнения. Через какое-то время я освоил автоматическую инвалидную коляску.

Спустя несколько секунд после взрыва серьезно раненный Жуан Сильва делает еще три кадра, после чего выпускает камеру из рук
Пока лежишь в палате в восстановительном отделении, перед тобой ставят цели. Врачи наперебой говорят: «Так, теперь вам нужно перейти на следующую ступень». Или специалист по лечебной физкультуре говорит: «В следующем месяце мы будем делать тест на весовую нагрузку, и после него вы сможете ходить». И ты думаешь: «О, ничего себе. Ну, это уже что-то. Есть на чем сосредоточиться».
Теперь я амбулаторный больной, живу в специальном городке для раненых бойцов и их семей. Но мне еще предстоит вернуться. Мне сделают поперечный разрез, чтобы затянуть мышцы живота, чтобы снять колостому и заново связать кишечник с толстой кишкой.
На процесс реабилитации уйдет, скорее всего, еще год. Мне нужно научиться обходиться без трости. Нужно заново научиться бегать — и когда я говорю бегать, я не имею в виду бегать на протезах. Я должен побежать на этих вот ногах, чтобы, когда я вернусь к работе, быть способным к коротким перебежкам (ноги Жуана Сильвы ампутированы ниже колен. — Esquire). Изящным такой бег не назовешь, но это все-таки должен быть бег. Тем более, думаю, теперь я в любом случае по ту сторону изящества.
Я буду снова фотографировать. Продолжу работать для The New York Times. Это просто вопрос времени.
Если у меня получится вернуться к военной журналистике, так и поступлю. Сомнений на этот счет у меня нет.
Сформулируем это так: ног у меня больше нет, но я все равно однажды поведу свою дочь под венец. И все равно увижу, как вырастет мой сын и как он во что-нибудь вляпается.
Пока они еще слишком маленькие. «У папы нет ног — зато у него теперь ноги как у робота, круто». Ну, вы понимаете: «Мой папа — трансформер!» Мы ничего не скрывали от них; мы объяснили им, что именно произошло, как взрослым. Возможно, это прозвучит банально, но я хочу, чтобы они мною гордились».
Источник
«В ту самую секунду, когда я наступил на мину утром 23 октября 2010 года, я довольно трезво оценивал происходящее. Вокруг меня погибало столько людей, а у меня на руках умирали друзья — я не преувеличиваю, — что когда это произошло, я просто подумал: «Все ясно. Мой черед. Пора». Было ничем не примечательное утро — такое же, как всегда, когда выходишь с военными. Ничто не предвещало беды. В нас не стреляли. Обычный пограничный патруль. Солдаты, которые не попадают на страницы The New York Times, да и остальных газет тоже, по правде говоря. Таким вот было то утро.

Кандагар, район Аргандаб. Саперная группа — рядовой Лаплаунт (слева), сержант Максвелл (справа) и прикрывающий обоих сержант Уотерман (в центре) — идет впереди взвода, проверяя сельскую дорогу и окрестности Я был третьим в цепочке. Парень, что шел первым, вел служебную собаку. Следом за ним шел еще один, отвечавший за безопасность, а потом я. Собака ее не учуяла. Потом на нее наступили ребята, но ничего не произошло. А на мне она сработала. Я услышал механический щелчок. Я понял: это не к добру. Очнулся, уже лежа на земле лицом вниз, окутанный облаком пыли, с четким осознанием: только что взорвалась мина, ничего хорошего не жди.
Я увидел, что ног у меня больше нет, а всех вокруг охватила оторопь. Я сказал: «Ребята, помогите же мне». И они обернулись, увидели меня на земле и сразу взялись за дело. Оттащили меня из зоны поражения на пару метров. Тут уже подоспели медики и принялись за меня. Я взял в руки камеру, сделал несколько снимков. Откровенно говоря, они получились не очень хорошими, но я пытался фиксировать события. Я знал, что дела плохи, но чувствовал, что жив. Нахлынул адреналин. Я был в здравом уме и осознавал все, что происходило. Так вот, я сделал пару снимков. Потом выронил камеру и перешел к плану Б, который состоял в том, чтобы взять в руки телефон. Я набрал номер Вивиан, своей жены, и сказал: «У меня нет ног, но жить, наверное, буду». Кстати, у меня двое детей. Потом передал телефон корреспондентке, чтобы она поговорила с Вивиан и успокоила ее.
Потом я лег на спину, чтобы выкурить сигарету. Тем временем врачи лихорадочно делали со мной что-то: жгуты, уколы прямо в грудную клетку и еще масса совершенно прекрасных вещей. Эти ребята спасли мне жизнь. Приземлился вертолет, чтобы перевезти меня в безопасное место. До того как я оказался внутри вертолета, я пребывал в полном и абсолютном сознании. Там я наконец отрубился.
Со мной не случилось ничего нового. Журналисты погибают и получают увечья с незапамятных времен. С тех самых пор, когда кто-то впервые взял фотоаппарат на поле боя. И я имел несчастье оказаться в их числе. В тот день мне катастрофически не повезло, и в то же время повезло невероятно. Мина была прикована к бочке, в которой находилось примерно 15 килограммов самодельной взрывчатки, и по какой-то причине она не взорвалась. Случись этот второй взрыв, то, что от меня осталось, легко поместилось бы в спичечный коробок. Просто удивительно, какие сюрпризы иногда преподносит жизнь. Назови это божьим промыслом, назови удачей, да как угодно назови — я за это очень благодарен.

Группа обращает внимание на любые посторонние объекты, в том числе на взрывные воронки от ранее обнаруженных мин
Сейчас я в Центре Уолтера Рида (Военно-медицинский центр Уолтера Рида в Вашингтоне, крупнейший военный госпиталь США. — Esquire) Бывают дни, когда совсем не хочется вылезать из постели. Но каждый новый день убеждает меня в том, какой я счастливчик. Всегда найдется кто-то, кому еще хуже. Молодые двадцатилетние парни — а у них ампутировано по три конечности и гениталии, и им придется начинать жизнь заново. Это непросто. Тут много ребят, страдающих депрессией, они очень мучительно все это переживают.
Но это и воодушевляет — потому что учишься понимать: как бы тебе ни было плохо, кому-то еще хуже, чем тебе.
С тех пор прошло девять месяцев. Для профессии настали тяжелые времена. Особенно скверным выдался апрель. Мы потеряли троих друзей — Тима, Криса и Антона (Тим Хезерингтон, Крис Хондрос и Антон Хаммерл — военные фотожурналисты, погибшие в Ливии весной 2011 года. — Esquire). Ливия оказалась дамой с крутым нравом.
Наверное, пройдет еще год, прежде чем я полностью приду в норму. Пока же мне требуется еще немного смелости, немного выносливости и — если говорить начистоту — чуть больше лекарств, чем я в состоянии проглотить.
Когда я увидел, что у меня нет ступней, я не понимал, насколько это серьезно. Только чувствовал на каком-то инстинктивном уровне, что все будет в порядке. Я не знал, что при взрыве пострадал мочеиспускательный канал. Что у меня травмированы внутренние органы. Что поврежден задний проход и у меня развивается сепсис. Именно из-за этого я тогда чуть не умер. Борьба шла против бактерий, а не за ноги.
Обычно после ампутации до момента, когда ты уже стоишь на протезах, проходит около десяти недель. В моем случае речь шла о пяти месяцах, потому что мое тело продолжали атаковать инфекции. Врачам пришлось целиком восстанавливать задний проход и уретру. Семь месяцев я мочился в пластиковый пакет через трубку. К счастью, все это позади. Я все еще пользуюсь калоприемником, но последняя операция исправит и это.
Думаю, я достиг той стадии, когда снова являюсь единым целым. То есть, конечно, ног у меня больше нет. И они уже никогда не вырастут. Но знаете, это ничего. Правда, ничего. Я жив, я здесь. Жизнь еще не закончена.
Меня часто спрашивают: «Как ты можешь просто стоять и смотреть на людей, которые рубят друг друга, да еще фотографировать все это?» Но нужно четко понимать свою роль. Если хочешь помогать людям, не надо становиться фотографом. Хотя мы все-таки помогаем. Я не раз грузил раненых на заднее сиденье своей машины и мчался с ними в госпиталь.
Просто, к сожалению, образы иногда получаются настолько сильными, что кажется, будто за камерой — не человек, а машина. А это не так. Картинка, которую фиксирует глаз, тут же отпечатывается в сознании. И некоторые из этих картинок не покидают нас уже никогда.

Сержант Максвелл, ведущий на поводке служебную собаку, — кадр, сделанный Жуаном Сильвой за несколько секунд до взрыва
Мой ближайший друг Кевин Картер (южноафриканский фотограф, один из четверых участников содружества Bang Bang Club, в которое в начале 1990-х входил Сильва. — Esquire) в итоге покончил с собой. Он снял знаменитый кадр в Судане: в грязи, вниз лицом, лежит девочка, а ее караулит стервятник. Его очень критиковали за эту фотографию. Люди, у которых не было ни малейшего представления о том, что двигало им, когда он делал этот снимок, — они критиковали его до тех пор, пока он окончательно не запутался в своих внутренних противоречиях. Он покончил с собой через месяц после того, как получил Пулитцера.
Люди по умолчанию полагают: вот, бессердечный фотограф просто проходил мимо ребенка и нажал на кнопку. Вообще-то ребенок находился в нескольких сотнях метров от гуманитарной миссии с бесплатной столовой. Но в этом и есть сила фотографии. Ты выделяешь конкретный образ, и это позволяет его транслировать, а это был сильнейший образ. Он посылал весть о голоде. И внезапно, буквально из ниоткуда, в Судан потекли деньги. Сделав эту фотографию, он спас больше жизней, чем если бы не сделал ее. По ту сторону объектива — живой человек, и этот человек хочет получить послание, передать его миру и при этом уцелеть.
Я стал фотографом случайно. В школе я никогда не ходил ни в какие фотокружки. Мой приятель изучал графический дизайн, и одним из предметов у него была фотография. Однажды ему дали задание на тему скорости, движения. Он пошел вместе с нами на гоночный трек, чтобы сфотографировать машины, и тогда я подумал: «Так-так, а в этой роли я могу себя представить. Такое дело мне по вкусу».
Тогда я сделал свои первые в жизни снимки. И меня будто муха укусила. С этого самого момента я точно знал, чем хочу заниматься. Тогда как раз кончился апартеид, выпустили Нельсона Манделу, и всю страну затопила волна политического насилия — брутального, такого, что требует крупных планов. За четыре года в Южной Африке убили 15 тысяч, а то и все 20 тысяч человек, при этом не было ни танков, ни артиллерии. Все это происходило в моей родной стране, буквально за порогом моего дома, и я чувствовал необходимость быть там — все задокументировать и рассказать миру, что люди погибают.
Я начал перемещаться по Африке и столкнулся с массой других конфликтов. При этом надо сказать, войны — не единственное, чем я занимался. Я не люблю называть себя военным фотографом. Конечно, это моя специализация, моя страсть. Но побывать на войне — далеко не единственная обязанность настоящего фотожурналиста.
В Уолтер-Риде меня не тянуло фотографировать. Первые пять недель я находился в реанимации. Я был настолько накачан лекарствами, что помню тот период очень расплывчато. На операционный стол я ложился через день. Только через семь с половиной месяцев я смог встать с койки. Тогда меня отправили в Центр интенсивной реабилитации (отделение Военно-медицинского центра Уолтера Рида. — Esquire) для военных, где тренируются все моряки и солдаты с ампутированными конечностями. Сначала я ложился на кровать, и на ней меня поднимали на спортивный мат, где мы делали упражнения. Через какое-то время я освоил автоматическую инвалидную коляску.

Спустя несколько секунд после взрыва серьезно раненный Жуан Сильва делает еще три кадра, после чего выпускает камеру из рук
Пока лежишь в палате в восстановительном отделении, перед тобой ставят цели. Врачи наперебой говорят: «Так, теперь вам нужно перейти на следующую ступень». Или специалист по лечебной физкультуре говорит: «В следующем месяце мы будем делать тест на весовую нагрузку, и после него вы сможете ходить». И ты думаешь: «О, ничего себе. Ну, это уже что-то. Есть на чем сосредоточиться».
Теперь я амбулаторный больной, живу в специальном городке для раненых бойцов и их семей. Но мне еще предстоит вернуться. Мне сделают поперечный разрез, чтобы затянуть мышцы живота, чтобы снять колостому и заново связать кишечник с толстой кишкой.
На процесс реабилитации уйдет, скорее всего, еще год. Мне нужно научиться обходиться без трости. Нужно заново научиться бегать — и когда я говорю бегать, я не имею в виду бегать на протезах. Я должен побежать на этих вот ногах, чтобы, когда я вернусь к работе, быть способным к коротким перебежкам (ноги Жуана Сильвы ампутированы ниже колен. — Esquire). Изящным такой бег не назовешь, но это все-таки должен быть бег. Тем более, думаю, теперь я в любом случае по ту сторону изящества.
Я буду снова фотографировать. Продолжу работать для The New York Times. Это просто вопрос времени.
Если у меня получится вернуться к военной журналистике, так и поступлю. Сомнений на этот счет у меня нет.
Сформулируем это так: ног у меня больше нет, но я все равно однажды поведу свою дочь под венец. И все равно увижу, как вырастет мой сын и как он во что-нибудь вляпается.
Пока они еще слишком маленькие. «У папы нет ног — зато у него теперь ноги как у робота, круто». Ну, вы понимаете: «Мой папа — трансформер!» Мы ничего не скрывали от них; мы объяснили им, что именно произошло, как взрослым. Возможно, это прозвучит банально, но я хочу, чтобы они мною гордились».
Источник
Портал БАШНЯ. Копирование, Перепечатка возможна при указании активной ссылки на данную страницу.