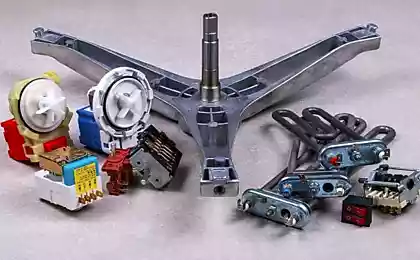735
0.1
2014-11-09
Чистое небо

На самом деле — искал в сети сборник рассказов по Сталкеру Но наткнулся на эту вещь. Понравилось.
Мгновение — и стало ясно: силы не равны.
Сергей перехватил руки незнакомца, протянутые к щиту регулировки режима
стеллатора, потом преодолевая слабое сопротивление, схватил человека в
охапку и оттащил в сторону. Еще мгновение — и тот оказался в кресле
второго диспетчера. Нависая над ним, Сергей Острожко, ответственный
дежурный Центральной, заорал:
— Тебе что, жизнь надоела? И как ты сюда пролез?
Пробраться ночью в Центральную Щитовую почти невозможно. Три зоны
охраны, и охранники что здесь, что во всех странах, где запущены
стеллаторы, не пропускают никого. Вплоть до применения оружия. Слишком
дорогая и строгая штука — стеллатор. Несколько нужных — а точнее,
ненужных включений, — и он может пойти вразнос, и тогда не выдержит
защита, полетит и сам стеллатор, и Установка, и добрая часть грузовой
станции. Только поселок останется — до него двенадцать километров.

За годы Сергеевой службы здесь, на Сарыче, никто не пытался проникнуть
в диспетчерскую, а тем более в Центральную. Да и зачем?
Сергей спросил еще раз, уже тише:
— Ты понимаешь, куда руки суешь? Мы же все гробанемся…
Человек по-птичьи вывернул голову и виновато сказал:
— Я бы вас предупредил, Сережа. Чтобы все успели уйти. И вас, и
остальных. Чтобы успели. Кровь не нужна. Нет-нет.
Что-то странное почудилось в речи незнакомца, одетого — теперь Острожко
рассмотрел — в униформу вспомогательного персонала. Но в чем заключалась
странность, Сергей не понял. Только спросил, так же переходя на «вы»:
— Вы меня знаете?
— Конечно, Сережа. Я специально выбрал вашу смену и ночь, чтобы успеть,
пока вы будете один. Я же знаю, что вы отдыхаете по очереди…
— Подождите, — перебил его Сергей, — что успеть? И откуда вы знаете,
что мы…
— Да-да, — торопливо сказал человек в униформе, — я так и решил, что
если сам не смогу, вы мне поможете. Вы только выслушайте меня сначала, а
потом обязательно поймете…
Он говорил быстро, и в то же время как бы пересиливая себя, и после
каждой фразы кивал — будто ставил точку. Не то чтобы это сильно
раздражало, но все же отвлекало внимание от смысла. Не о каких-то своих
гипотетических обязательствах собирался спросить Острожко, а о том, зачем
этот человек пробрался в Центральную и за спиной дежурного бросился к
щиту. И черт возьми, если бы не слух и реакция Сергея, сейчас бы могло
начаться такое…
— Говорите ясно: кто вы? И что вам нужно? Я сейчас вызываю охрану…
— Вам, конечно, одному не по себе, — торопливо закивал незнакомец, — опять же по Инструкции вас должно быть здесь двое, но если бы кто другой
остановил, то сразу бы к охранникам, а вы сначала послушаете. Я давно
заметил, еще когда вы с женой здесь были на стажировке…
Вот тут-то Острожко вспомнил ясно и сразу, и в следующее мгновение уже
удивлялся себе, что не узнал сразу дядьку Панаса, завхоза их
общаги-малосемейки, где размещались стажеры. Разве что униформа сбила, но
лицо-то… Лицо Сергей должен был узнать сразу. Тогда, шесть лет назад,
разговаривали, гоняли чаи, да и потом… Нет, позже — не разговаривали,
хотя мелькало, право же, заостренное, в ранних морщинах, лицо, сутулая
фигура… Не возле Ганнусиного садика ли?
— Чумак? Афанасий Михайлович? — спросил Острожко, уже с полной
определенностью признавая человека.
— Да лучше по-старому, дядькой Панасом. Что мне в таком величании?
Панасом был и уйду, а отчества и не оставлю, и видать сам того не стою,
раз пресеклась…
Нет, странность была не в голосе, а в глазах дядьки Панаса, в том, что
во взгляде его плавал какой-то туман; и совершенно непроизвольно появилось
в сознании Острожко слово «юродивый», полузабытое, никогда прежде не
употребляющееся для определения визави, еще не прилепленное окончательно к дядьке Панасу, но уже приближающееся к некоему порогу сознания.
— Хорошо, пусть будет так, но вы не ответили: что вы здесь делаете? И
откуда у вас эта униформа?
Дядька Панас ответил быстро, но первого вопроса будто бы и не слышал:
— А мой комбинезончик, по службе полагается, только не такой, да этот
моего размера…
— Вы работаете здесь? На «Чистое небо»?
— Работаю, конечно. Уборщиком. Тоже ведь убирать нужно, пока смена то
да се, а людей очень много, не объяснить: совесть-то с одного начинается,
когда человек сам перед собой как перед зеркалом…
Сергей понимал все, что говорит Чумак, но чем дальше, тем определеннее
замечал: где-то внутри фраз, остро и с усилием высыпаемых дядькой Панасом,
проскакивает маленькая логическая подмена. Речь начинается об одном, а
потом утверждается другое, не совсем (или совсем не) вытекающее из посыла.
Но как расценить эту особенность речи, Острожко не знал.
— Разве по ночам уборкой занимаются? И зачем вас понесло к щиту?
— Да я все хочу объяснить, а вы такой нетерпеливый стали, будто и у вас
в горле пересохло. Вы бы водички нацедили, все же уборщики знают, что у
вас и термос, и сифончик…
— Сейчас.
Острожко встал, вытащил из шкафа пластмассовую кружку, потянулся за
сифоном — и тут краем глаза уловил быстрое движение.
Сергей резко, так что кружка отлетела в сторону, повернулся и крикнул:
— Стой!
Крикнул, через мгновение дотянулся, навалился всем телом, прижал Чумака
к пульту и, перехватив поперек туловища, отбросил в кресло. Уже понимая,
что поздно, что ничего это уже не даст, разжал Чумакову ладонь и отобрал
микрофон. Микрофон «токи-воки», переговорника связи с другими помещениями,
в том числе с охраной. Выдран, что называется, с мясом — не сразу
починишь…
— Вы что?! Что вы наделали? — закричал Сергей на Чумака.
Афанасий Михайлович медленно провел пятерней по лицу и выпрямился:
— Вот и все. Теперь можешь спокойно налить воды. И себе.
Несогласованных действий больше не будет.
Сергей как завороженный поднял с пола кружку, нацедил воду и подал
Чумаку, а сам обхватил носик сифона губами и сделал несколько глотков,
пока рот не переполнился углекислотой.
Перед ним в кресле сидел другой человек.
Цепкий, внимательный и ясный взгляд. Голос твердый, уверенный, будто не
говорит, а командует. Спина выпрямилась, движения стали скупыми и точными.
Сергей отставил сифон и сел.
Только что вся ситуация казалась иною. Да, посторонний в Центральной — само по себе ЧП, но дядько Панас выглядел таким безобидным, что в его
появлении Сергей предполагал не умысел, а какую-то нелепицу, что-то вроде
случайных блужданий спросонок или с похмелья по корпусам, безлюдным ночью.Конечно, нарушались серьезные — режим — инструкции, но в этом нарушении не предвиделась опасность; сами операторы и дежурные нарушают почти еженощно, самовольно разделяя смену на подхваты, и до сих пор ничего не происходило. Разве что пара необязательных нагоняев, когда начальство застукивало — и все.
Тем более, Острожко — сильнее, а Чумак безоружен, да и напарник явится
меньше чем через час.
Теперь же Острожко, потрясенный внезапной переменой, воспринимал все
иначе. В приходе Чумака стал очевиден умысел, и не мог Сергей не подумать,
что попал в сложную ситуацию. Чумак явно играл, и пока что это была его
игра, а действия Сергея, похоже, вполне укладывались в Чумакову тактику.
«Но в чем умысел?» — спросил себя Острожко.
— Теперь мы должны согласовывать наши поступки, — все тем же властным
тоном сказал Афанасий Михайлович, — и не слишком уповай на то, что ты
физически сильнее. Это далеко не все. Позвать на подмогу или охранников ты
не можешь: меня за спиной оставлять нельзя. Я же не хочу избавляться от
тебя. Наоборот. Значит, нужен консенсус, нужно координировать действия.
Согласен?
— Что все это значит? — спросил Сергей.
Но Афанасий Михайлович пропустил его вопрос:
— У тебя пока что мало оснований мне доверять. У меня больше, но еще
недостаточно. Пока. А нужно полное доверие — других отношений с совестью
не бывает, нет?
— Да кто вы? — спросил Сергей.
— Ты же меня узнал. Чумак. Дядько Панас. Бывший диспетчер, бывший
оператор стеллатора, бывший завхоз, бывший отец… — Чумак судорожно
сглотнул, и на миг лицо приобрело недавнее, болезненное выражение; лицо,
искаженное болью и непониманием, лицо полу-юродивого.
Показалось — и нет его: опять второй, решительный и властный. И в
глазах — не муть, а убежденность. Чуть ли не чрезмерная… — но Сергей не
успел довести до конца свою мысль, потому что Афанасий Михайлович
заговорил вновь:
— И как понимаешь, я не диверсант и не террорист. Иначе ни к чему бы с
тобой церемониться. Все необходимые переключения могу сделать сам. И
сделал бы давно без твоей помощи. А тебя, чтобы не мешал… Это не сложно.
Без шума. Но другого шанса не будет. Ты — подстраховка…
— Что вам нужно? — спросил Сергей.
Нет, он все еще не боялся.
Чумак вел себя в самом деле не как диверсант или террорист. Террористы
сначала стреляли и бросали бомбы, а потом уже разговаривали. Или «давали
показания». Опасность? Да, но скорее всего не личная.
Теперь Острожко вспомнил твердо: да, говорили, что завхоз дядько Панас
прежде не был завхозом, а ушел из операторов по здоровью… Нет, была там
какая-то история, семейная, что ли… А если был оператором…
Квалификация не исчезает просто так. И оборудование изменилось не
настолько, чтобы не разобраться самому. Значит, действительно Сергей нужен
для чего-то иного…
— Чего я добиваюсь? — спросил Чумак и чуть прищурился, — теперь
скажу… Вопрос по существу. Только сначала отвечу на предыдущий: кто я.
Согласен?
Сергей утвердительно кивнул, вновь поражаясь перемене в непрошеном
госте.
— Я — твой судья.
— Судья? Да мы едва знакомы. И какие основания…
Чумак резко перебил, почти выкрикнул, наклоняясь к Сергею:
— Ты убил мою дочь!
Мгновение звенящей тишины — и непрошеный, судорожный как всхлип
короткий смех вырвался у Сергея. Он тут же зажал рот ладонью, несколько
раз тряхнул головой, будто пытаясь разорвать сновидение, и ответил, ясно
глядя в глаза:
— Да вы что, Афанасий Михайлович? У меня самого дочка! Что за шутки…
Но Чумак, похоже, не шутил. Если выражение его лица хоть что-то, кроме
игры, означало, то был он строг и скорбен. Покачав головой, он произнес:
— Ты убил ее. Она скончалась на рассвете, в такой же час, за неделю до
своего девятилетия…
«Он что, ума тронулся?» — спросил себя Острожко, и вдруг будто начал
прозревать… И слова, и поведение, все эти неожиданные перемены в Чумаке
укладывались в схему, в картину душевной болезни. В то, что мог себе
представить Сергей — не врач и вообще человек достаточно далекий от
медицины.
Что сия догадка изменяла в ситуации, Острожко еще не знал, и сказал
только:
— Да вы с ума сошли, Афанасий Михайлович, — я же…
— Сошел с ума? — с живостью перебил его Чумак. — Это было бы выходом.
Лучшим выходом. Выпасть из ежечасного сознания, ежечасной муки — когда не
можешь даже позволить себе уйти из жизни…
Такая тоска и боль исказили черты Афанасия Михайловича, что Сергею
стало стыдно за свое предположение — и одновременно отодвинулось
предчувствие опасности. И не как неправедно обвиненный, не как должностное
лицо, вынужденное серьезно нарушать инструкции из-за самого факта
пребывания Чумака на Центральной, а просто по-человечески Острожко сказал:
— Конечно, большое несчастье; но может быть, со временем все
уляжется…
— Со временем все мы уляжемся, — мгновенно отозвался дядько Панас, — жена и месяца не выдержала, руки на себя наложила, а мне вот седьмой
год…
И тут Сергей как в озарении вспомнил с непреложной ясностью, что это
была за история. Все так: и девочка умерла накануне своего девятилетия, и
мать вскоре покончила с собою, и это была семья одного из операторов
стеллатора. Шума в свое время — семь лет назад, — было достаточно, потому
что у ребенка был один из самых первых в нашей республике случай
гемосольвии. Если не самый первый. У самых истоков пандемии… Но мог ли
подумать Острожко тогда, он, стажера-выпускника Политеха, впервые в жизни
попав на Сарыч через полгода после всех этих печальных событий, что
когда-то дождется обвинения в детоубийстве?
— … Мне другое выпало, — продолжил Афанасий Михайлович, вперив жесткий
взгляд в Сергея, — и я не могу уйти, не пресекши зло.
Взгляд ли его имел особенную силу, или Сергей окончательно уверился,
что перед ним больной человек, искаженно представляющий действительность и способный на любые действия, но напряжение наступило жуткое.
Холодно и скользко стало между лопаток, а ноги наоборот, обдало ватным
теплом…
И тут мелодично и отчетливо звякнул таймер-сигнал к очередной фиксации
показаний.
Сергей вскинул голову.
Все так. Девочку звали Оксаной. Оксана Чумак. Одно из самых первых
заболеваний гемосольвией. Девочка умерла в больнице. Никакой, даже самой
косвенной вины у Сергея нет и быть не может: гемосольвией нельзя
заразиться. До сих пор никто не знает, отчего возникает и как
распространяется эта детская болезнь. Смертельная болезнь, — но может
быть, сам Чумак в гораздо большей степени невольная причина — встречал
Сергей в прессе предположение о том, что болезнь как-то связана с
наследственностью…
— Афанасий Михайлович, — твердо и спокойно, как по его представлению
следовало говорить с больным, сказал Острожко и поднялся, — мне пора
делать контрольную запись; а вы, пожалуйста, посидите спокойно. А потом,
если хотите, еще поговорим. Только сразу предупреждаю: я к детским
болезням никогда никакого касательства не имел. А может быть, даже
наоборот: я же на «Чистое небо» работаю.
— Я посижу, — кивнул Чумак, вроде как разрешая, и поморщился будто от
боли; да наверное и действительно от боли, потому что выловил из упаковки
таблетку и быстро проглотил.
Несколько секунд — и отозвался вновь:
— Насчет же «спокойно» — это себе скажи. Ты ведь признался…
Машинально еще Сергей шел вдоль ряда приборов и, казалось, что-то
записывал в оперативном журнале и только спустя добрых полминуты
остановился:
— Признался? В чем?
— В убийстве. Ты убил мою дочь. Ты убил сто тринадцать тысяч двести…
— Афанасий Михайлович быстро взглянул на часы и поправился: — Сто
тринадцать тысяч триста детей. А будешь убивать по тысяче каждую неделю,
если тебя не остановить.
Несколько секунд Чумак молчал. Казалось, что он борется с какой-то
сильной болью. Потом он отозвался негромко и спокойно:
— Все. Теперь ты знаешь. Теперь ничего не изменит моя смерть: ты ничего
не сможешь забыть. Совесть не убьешь.
— Дядько Панас! — Сергей, не выдержав, подскочил к Чумаку и схватив его
за грудки, — да опомнитесь вы! Нашли виноватого! Гемосольвия же — это
болезнь, да, страшная, да, неизлечимая, да, от нее умирают дети во всех
странах, и может быть, действительно умерло уже сто тридцать тысяч — но
я-то при чем?
— «Чистое небо», — бросил Чумак, и с неожиданной силой сжав Сергеевы
запястья, отстранил его от себя. И посмотрел так, что показалось Острожко:
все возможно, и как знать, что застанет напарник, когда войдет сюда через
полчаса.
Будто убаюкивая, отвлекая, пытаясь разрядить напряжение, Сергей
заговорил:
— Но это же программа во спасение человечества. Вы же старше меня,
должны хорошо помнить, что творилось два десятилетия назад: кислотные
дожди, смог, чудовищные домны, заводы, горы шлаков, карьеры, рудники,
шахты — а сейчас? Все сырье дают диализные установки. Это же вековая мечта
человечества: получать все сырье из океана. А стеллаторы наконец
обеспечили энергией. Последние ТЭЦ закрыты, и уже решено столько проблем:
голод победили… «Чистое небо» — это…
— Когда Сатурн начинает пожирать своих детей, Сатурна следует
уничтожить, — раздельно произнес Афанасий Михайлович.
— Да с чего вы взяли, что «Чистое небо» имеет какое-то отношение к
гемосольвии? — спросил Сергей, внимательно глядя Чумаку в лицо. — Это
болезненная странная идея…
— Договаривайте, — бросил Чумак, недобро оскалясь. — Сумасшедшая идея.
Бред сумасшедшего. Мне тоже однажды показалось… Показалось, что весь мир
сошел с ума, если не хочет замечать очевидного. Но весь мир не может сойти
с ума. А вот не замечать — потому что нельзя _такое_ замечать, потому что
невыгодно, недопустимо, лишает приятного упования на «авось пронесет» — может. Да и сам я не хотел понимать, думал, что все это — расплата за
прошлый век… А это мы сами, «кудесники двадцать первого века...»
Чумак засмеялся сухо и зло, как залаял. И тут же, оборвав смех, вперил
в Сергея горящие глаза:
— Что ты знаешь о гемосольвии?
Сергей, как впрочем все культурные люди после того, как счет жертв
пошел на тысячи, не пропускал статьи в периодичке, и без особого
напряжения сказал о том, что это — болезнь крови, вроде как ее разжижение,
отсюда и название «гемосольвия». Отказывают кроветворные органы, и не
помогают ни пересадка тканей, ни переливания. И что болеют только дети, а
причины болезни не установлены.
— Нет никакого лечения, — подтвердил Чумак, — уходят дети. Уходит
будущее. А виноваты — вы. Вы, со своим «Чистым небом». И знаете это,
обязаны знать — но не хотите даже выслушать…
— Да никто этого не знает я не может знать, потому что…
— Потому что, — резко повысил голос Афанасий Михайлович, — знать
страшно. А не знать — удобно. Потому что вы не спасители-альтруисты, вы
делаете чистое небо для себя, только для себя, чтобы вам было сытно и
приятно, потому что сразу поняли: вас гемосольвия не коснется. После вас
ну хоть потоп — вам нужно, чтобы при вас были чистое небо, уютная
планета. Вы покупаете комфорт ценою детских жизней — и только поэтому не
хотите одновременно посмотреть на формулу морской воды и формулу крови!
Только поэтому не хотите сопоставить динамику гемосольвии и прирост
мощностей диализаторов! Не хотите понять, что чем больше вы разжижаете
море, тем прозрачнее становится кровь детей. Не хотите понять, что вы — убийцы. Не хотите даже выслушать, пока вас не заставить, не взять за
горло, не положить руку на термоядерный синтезатор, на стеллатор!
Нет, Чумак не попытался встать, не сделал ничего, что напоминало бы
попытку перейти к активным действиям. Только говорил убежденно, с напором,
и в каждое слово, казалось, вкладывая всю душу.
Но тем не менее это уже был язык логики, фактов и предположений, здесь
можно и должно было оперировать категориями разума. Не дикое обвинение
лично Сергея, а обвинение системы действий, всего того, что входило в
программу «Чистого неба». Того, что составляло, по убеждению Острожко и
миллионов землян, выход из экологического тупика. Выход, не затрагивающий
достижения и завоевания технической цивилизации.
И хотя Сергей понимал, как неустойчив может быть баланс в сознании
одержимого человека, и отметил, что Чумак проговорился-таки о своем
намерении «взять за горло, положить руку на стеллатор», сказал он почти
ласково:
— Давайте разберемся спокойно, ладно? Разве можно в таком деле
эмоциями, криком? Вы говорите — совпадают формула крови и формула морской
воды. Точнее, вод пра-океана. Правильно. Жизнь зародилась в океане. Какой
же быть крови? Это известно каждому школьнику. Но что с того? Связь-то
давно оборвана, миллиарды лет тому, бог весть какие миллиарды! И многие из
тех несчастных детей ни моря, ни океана в глаза не видели…
— Да, Сергей, все так, — сказал Афанасий Михайлович ровным,
«нормальным» тоном, и в глазах его померк недавний лихорадочный огонек, — многие дети на моря, ни океана не видели. Равно как многие взрослые. Но
связь существует. Не оборвалась, а продолжается. Ты знаешь, что суточные
ритмы активности человека совпадают с ритмами приливов?
— Да, — подтвердил Острожко, — ну и что? Естественно, человек — часть
природы.
— Только все время забываем об этом. Ведем себя, как…
— Разве нельзя в ее рамках, — перебил Сергей, — действовать? И если на
то пошло, то мы в программе «Чистый воздух» даже не нарушаем глобального
равновесия: все, что взято у океана, рано или поздно туда вернется…
Ожил экран: нейрокомпьютер проверял функционирование систем поддержки
режима. Сергей, искоса поглядывая на Афанасия Михайловича, проследил за
цифрами, высвеченными на экране, и вновь повернулся к собеседнику.
Сколько прошло? Минут пять, не больше. А лицо Чумака заострилось, и
когда он заговорил, то вновь почувствовалось, с каким трудом ему даются
слова:
— Если бы я знал точно… Хотя и тогда мне пришлось бы заставлять
выслушать себя… Но мне кажется, дело не просто в тех тысячах тонн
твердого остатка, который извлекается из воды… Изменения концентрации
сами по себе, наверное, еще не все… Мы берем у моря живую воду, а
возвращаем мертвую.
— Вы вспомнили сказку? — мягко спросил Острожко.
— Нет, не сказку. Ты, возможно, не в курсе… Ионы в морской воде — не
просто примесь, а узлы пространственных структур. А сам океан — первооснова не потому только, что жизнь вышла из него; он залог, хранилище
матриц всего сущего, Голографические матрицы формирования молекул ДНК… И
генов… А в диализаторе все матрицы разрушаются…
— Да, да, я слышал об этих теориях, — Сергею хотелось помочь
собеседнику в разговоре, который стал казаться слишком тяжелым для Чумака.
— Теория?.. Их много. А пока мы спорим и проверяем, гибнут дети… Как
всегда. По зонам, по территориям заболеваемость тем выше, чем больше
установок и чем сильнее их влияние на состав воды. Здесь, в Причерноморье,
особенно плохо — море застойное… Впрочем, нам всегда с экологическими
бедствиями свезло" больше всех.
— Может быть, — перебил его Сергей, волнуясь тем больше, чем спокойнее
становился Чумак, — действительно существует такая корреляция: чем больше
мощности диализаторов, тем больше заболеваний. Может быть, хотя нигде я
таких публикаций не встречал… Но почему Зло — обязательно в наших
установках? Почему обязательно такая, чуть не мистическая, связь? Почему
вдруг такие высокие технологии, как в диализаторах, окажутся опасными?
Установки «Чистого неба» — это же образец экологического совершенства!
Металлы и соли — из воды, с минимальными тепловыми загрязнениями, безо
всяких отходов: воду после диализатора можно пить, она чище водопроводной!
— А вы подумали, — почти радостно вскричал Сергей, сворачивая на
торный, на привычный путь рассуждении, — что действительная корреляция
происходит вовсе не с мощностями диализаторов, а с общим уровнем
промышленного развития? Ведь чем выше развитие страны, тем больше они
строят диализаторных установок? Ну почему обязательно такая связь? И кто в
нее поверит?
Острожко кричал, и надвигался на неподвижного Афанасия Михайловича, и
кажется, готов был наброситься на него, лишь бы заглушить, лишь бы не
впустить в сознание правду, лишь бы не услышать то, что ближе, все
неотвратимее, что вырвется, обязательно вырвется наружу…
— Я и сегодня был в садике… — тихо выговорил Чумак, — Оксану не
вернешь… А как похожи… У твоей Ганнуси брови — точно как у нее… Я
всех детей знаю… Всех в нашем поселке…
«Почему? — спросил у себя Сергей, — почему я не могу, не хочу поверить?
Почему лишь на мгновение мне стало больно и страшно? На мгновение лишь
стало невыносимо от мысли, что я, добросовестно выполняя все инструкции,
обрекаю свою дочь — и других — на гибель? Почему в следующее мгновение
приказал себе знать, что с Ганнусей ничего не произойдет, что непременно
все окажется лишь досадным происшествием во время ночной смены? И что если
останется хоть один — процент незаболевших — Ганнуся окажется среди них?»
А потом еще спросил у себя:
«Почему действовали по инструкции исполнители, почему разрабатывали
инструкции те, кто некогда уставлял все страны чудовищными АЭС, кто
приказывал лить на поля смертельные яды, кто возводил заводы, отравляющие все живое на тысячи верст окрест? Неужели не знали, что такое радиация, гербициды, кислотные дожди? Знали же — и заставили себя не думать, что придется расплачиваться».
Расплачиваться?
Волна озноба прошла по телу. Сергей качнулся в кресле и тут же
выпрямился, пристально глядя на Афанасия Михайловича.
Тот сидел, расслабленно уронив руки, и смотрел с тоскою и мукой. Сергей
быстро перехватил сухое запястье — есть пульс. Неровный, слабый — но есть.
— Вы меня слышите, дядько Панас?
— Ты же молчишь, — тихо сказал Чумак, — все вы молчите. И делаете…
— Надо вызвать врача. Вы не двигайтесь…
— Хочешь дешево отделаться? — глаза Чумака по-прежнему были полузакрыты
веками, но теперь в них угадывался холодок. А может, злость. Но все равно
Сергею стало жаль этого человека, тяжело, быть может — смертельно
больного. Одержимого… Конечно, Панасу Михайловичу выпало страшное:
потерять единственную дочь и жену. Разве можно удивляться, что он потерял
рассудок? Разве можно удивляться, что пришла к нему потребность остановить
беду… А беда в его пылающем разуме оказалась связана с Установкой…
Разве сам Сергей, случись вдруг такое…
«Нет! — поднялся из глубины сознания протест. — Только не такое! Что
угодно — стыд, суд, наказание — но только со мною, не с ними… Только — ради их благополучия, только — чтобы они поняли и простили...».
— Панас Михайлович, не думайте: я в самом деле хочу вам помочь. Вы
серьезно больны…
Афанасий Михайлович кивнул, но тут же, видимо, собравшись с силами,
выпрямился и отчеканил:
— Твоя дочь еще не больна. Может быть, еще успеем… Ситуация должна
быть еще обратимой. Понял?
— Да, да, понял, — кивнул Сергей, успокаивая Чумака, — но я должен вам
помочь…
— Себе помоги, — бросил Афанасий Михайлович и резко высвободился, — себе и дочери. Приготовься посмотреть ей в глаза, когда начнется…
— Нет! Этого никто не может знать! — закричал Сергей.
— Я знаю, — с пророческой убежденностью сказал Афанасий Михайлович,
будто загораясь изнутри. — Я шестерым предсказал. Всем шестерым в нашем
поселке.
«Но в поселке было семь случаев гемосольвии!» — хотел крикнуть Сергей,
— и вспомнил: первой была Оксана, дочь Панаса Михайловича.
Несколько секунд они молчали, напряженно глядя друг на друга. А за
широкими окнами светало, и уже можно было различить скалистый мыс,
уходящий в море, белые барашки наката, извечно бьющего у берега. Скоро
будут видны ленивые водовороты над водозаборником, далеко слева, и упругий
водяной бугор далеко справа, там, где вырывается из невидимого жерла
отработанная вода.
— Рано или поздно все вернется в Океан, — сказал Чумак разумным
голосом, — только между «рано» и «поздно» лежит смерть.
— Не в этом дело, — отозвался Сергей, и собственные слова показались
ему идущими издалека, — мы можем и не знать, отчего, за какое действие
приходится расплачиваться.
— Те шестеро… Я их предупреждал, — заговорил Чумак, — они поверили,
да только что могли поделать? А Ковалев — он мог, он на Установке
работает, да не захотел. Было еще не поздно — а не захотел поверить. А
обратной дороги нет.
Глаза Чумака вдруг потускнели; он прервал себя на полуслове и забился
вглубь кресла, будто старался отодвинуться от какой-то опасности.
Воцарилась пауза, и в ней собственные мысли — может, неожиданные, а может,
закономерные, — показались Острожко как бы звучащими:
«А с чего вообще я занервничал?»
Сергей внутренне _остыл_, и все мысли стали иными: спокойными, четкими,
уравновешенными.
«Разве можно верить сумасшедшему на слово? Сходство формул крови
больных с океанскою водою? Но сходство было и раньше, до включения
диализаторов. И сходство — не совпадение. Надо проверить. Сличить
документально.
Корреляция распространения гемосольвии с мощностями Установок? Но это
само по себе ничего еще не доказывает. Мало ли какие процессы укладываются
в одинаковые графики. И совсем не исключено, что на самом деле корреляции
нет, она существует, только в помутившемся сознании Чумака.
Шестерым предсказал? А предсказал ли в самом деле? А может, просто
уверил себя, что так и думал, что предчувствовал, что знал заранее, а на
самом деле это лишь послечувствие? Так ведь срабатывает зачастую даже
здоровое сознание, а уж поврежденное…
Если нет ничего, кроме горячечного бреда, и он, Острожко, станет
посмешищем всего мира?
Но если…
Стоп. Можно проверить. Прямо сейчас проверить одно из утверждений
Чумака, быть может, самое важное...»
Сергей подошел к пульту и поднял трубку городского телефона. Пробежал
по клавишам, набирая запрос в справочной, а затем, считав ответ с
мини-экранчика, набрал номер. Краем глаза он следил за Чумаком.
Афанасий Михайлович сидел неподвижно, как бы а беспамятстве. В трубке
раздались длинные гудки. Еще не время для телефонных звонков, но Игорь
Ковалев, институтский приятель, простит. И если он сейчас скажет, что не
приходил к нему никакой дядько Панас, и сынишка здоров, то…
— Женя? — сказал в трубку Сергей, — прости, что не вовремя. Но мне надо
срочно переговорить с Игорем, это Сергей Острожко…
… Наверное, пять минут Острожко сидел неподвижно, сжимая трубку во
влажной ладони.
Мир рушился, раскалывался, и обломки падали на могилу Игоря Ковалева,
покончившего жизнь самоубийством три часа назад, и на будущую могилку их
Тарасика. Шестилетнего Тарасика, которому вчера поставили окончательный
диагноз. Приговор. Гемосольвия.
«Все действующие знали в глубине души, что расплачиваться придется — если придется, — только другим. Что их самих ждут только награды, а все
неприятности — другим, дальним. И можно вообще не задумываться, соблюдать
Инструкции, не задумываться, прав ли ты и призовут ли когда к ответу тех,
кто этим самые инструкции выдумал, кто указал такой путь. Быть
исполнителем, быть до конца человеком, останавливать свой разум перед
ненужными, невыгодными мыслями и догадками».
— Смерть, смерть, — вдруг забормотал Чумак, бледнея, — роду
человеческому погибель… Ты должен… Тебя послушают… У нас только один
шанс… Может, простят…
И замолк.
«Не простят», а «простит», — промелькнуло у Сергея. Он встал и, не
оглядываясь, подошел к главному пульту управления стеллатора.
Опытный оператор, один из самых лучших здесь, на Сарыче, он подготовил
схему всего за десять минут.
Критический режим. Еще одно переключение — и процесс станет
необратимым. Только и радости, что всем будет возможность эвакуироваться:
мощность нарастает неудержимо, но постепенно, пока наконец рукотворное
солнце вырвется из-под земли…
Стоя у пульта, Сергей пообещал:
— Я заставлю себя выслушать. Ради спасения стеллатора мне дадут прямой
эфир. Заставлю выслушать, заставлю отключить диализаторы, и если
гемосольвия отступит — никто не посмеет…
Афанасий Михайлович сидел совершенно неподвижно, и от пульта, где
находился Сергей, трудно было разобрать, он ли это или только пустая
оболочка.
А в соседнем пустом зале уже раздались неторопливые шаги напарника.
Его надо остановить в дверях.
Остановить, и потребовать срочно (обязательно срочно — чтобы не успели
пробиться к кабелям управления в нижних этажах) — дать прямой эфир. И
тогда сказать всему миру, что надо немедленно вывести все Установки,
потому, что вся жизнь на Земле взаимосвязана, и покушение на Океан
оборачивается трагедией…
Выслушают? Исполнят? Может быть. Не исключено. И может быть, все,
сказанное Чумаком, — прозрение, догадка, и распространение гемосольвии
действительно приостановится…
А если — нет?
А если он, лично он, Сергей Острожко, принесет человечеству потери — и
не выявится никакая связь?
Если все взаимосвязано сложнее, намного сложнее, чем привыкли думать до
сего времени?
А еще вероятнее — все так, да только не хватит у человечества терпения,
и Установки включатся раньше, чем проявится хоть какой-то заметный
результат. Спад эпидемии.
И если даже все подтвердится, если во всем окажутся справедливы
предвидения — что тогда? Снова заводы, карьеры, рудники, домны, снова
кислотные дожди и погибельный дым над городами, снова задыхающиеся
старики, больные матери, дети-мутанты?
Снова не будет хватать энергии и сырья, и вернутся голод, нищета,
болезни? И быть может, погибнет людей больше, много больше, чем умирает от
гемосольвии?
… Шаги раздавались уже у самой двери.
«А если Ганнуся заболеет?
Одна-единственная, и я буду знать, что виноват? Виноват в том, что не
поверил, не сделал все, что обязан, не использовал единственного шанса?»
… Ручка двери повернулась…
© Юрий Иваниченко
ЗЫ Прошу прощения за форматирование, чего-то не выходит сделать намано, руки кривые
Источник: http://
Портал БАШНЯ. Копирование, Перепечатка возможна при указании активной ссылки на данную страницу.