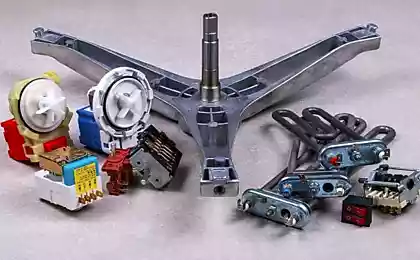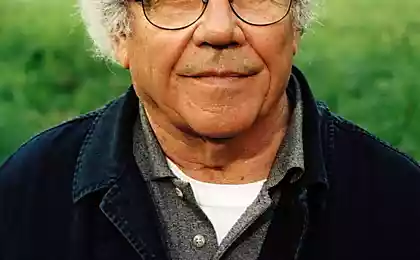646
0.1
2016-09-21
Философ Джанни Ваттимо: Люди, верящие в истину, крайне опасны — это агенты здравого смысла

Итальянский политик и философ Джанни Ваттимо является одним из ведущих теоретиков постмодернизма. По его словам, современная культура характеризуется не только процессами в искусстве, но явлениями в социально-экономическими (наступление постиндустриальной эпохи) и религиозными (секуляризация и наступление постхристианской эпохи). «Теории и практики» поговорили с итальянским ученым о субъективности и интерпретации как главном сдерживающем механизме от тоталитаризма и перехлестов.
— В свое время вы крайне критично отзывались о принципе объективности, который вмешивается, в том числе, и в общественную практику, сводя ее к тоталитаризму.
— Для меня это открытый вопрос. С одной стороны, раз я хочу совершить революцию, или же просто каким-то образом трансформировать группу, к которой принадлежу, мою жизнь, то я нуждаюсь в некой мощной субъектности, дабы быть способным чего-то желать, принимать какие-то решения. С другой стороны, первое решение, которое следует принять — это отказ от превознесения своей субъективности. В этом смысле я и остаюсь христианином. Это этическая позиция. Я не хочу ни утверждать свою субъективность, ни отрицать ее — мне нужно находиться в сообществе во всех смыслах этого слова. Глупо думать, что освобождения можно достичь, развивая эго. Нет! Путь к эмансипации — обретение связи со своим горизонтом, своей основой, своим сообществом. Так что я уже не так беспокоюсь по поводу этой проблемы. Возможно, в свое время я несколько преувеличил ее значение в силу того, что изучал Ницше, который провозглашал волю к власти, но в то же время был противником субъективизма (налицо внутреннее противоречие). Он подвергал критике структуру христианской буржуазной субъективности, платонову структуру этики, идею доминирования разума над страстями и инстинктами. Неудивительно, что ему все это не нравилось — он был таким же старым бедным профессором как и я, не либералом.
На самом деле тут речь идет о том, что Хайдеггер называл «Eigenschaft» — в смысле аутентичности/характерности. Позднее он истолковывал этот термин иначе — в качестве принадлежности/обладания, в каком-то смысле самообладания. Этот термин связан и с другим термином — «er eigenen» — переживаемым моментом бытия. То есть это был сдвиг от экзистенциальной позиции Хайдеггера 20-х к другой точке зрения — от анализа субъективности к анализу необходимой принадлежности к некоему историческому горизонту. Кстати, что вы бы назвали плохим или хорошим? Можем ли мы в этом вопросе полагаться на кантов «нравственный закон внутри себя»? Не думаю. То есть вы полагаете плохим и хорошим нечто, что признано таковым в вашей культуре — не просто на поверхностном уровне публичности, но и в глубокой толще исторического строения общества. Это было, кстати, характерно и для Витгенштейна. Он тоже отвергал «естественный нравственный закон». Существует приемлемость для других, тех, с кем ты живешь, но она не сводится к простому раз и навсегда установленному разделению на «добро» и «зло». Речь тут не идет о конформизме и простом принятии обычной культуры, обычных идей, обычных норм. Нет! Необходимо критиковать их, бороться с ними, но и вступать в диалог, сознательно занимать собственную позицию. Конечно, нельзя впадать в иллюзию, будто ты пророк. Во многом поэтому я ощущаю себя скорее коммунистом, нежели индивидуалистом.
«Что вы бы назвали плохим или хорошим? Можем ли мы в этом вопросе полагаться на кантов «нравственный закон внутри себя»? Не думаю. Вы полагаете плохим и хорошим нечто, что признано таковым в вашей культуре — не просто на поверхностном уровне публичности, но и в глубокой толще исторического строения общества».
Индивидуализм всегда связан с тем, что Хайдеггер называл метафизикой — с иллюзией, будто можно занять собственную позицию в споре, схватив первые принципы отношений и говорить о том, что тебе доступно понимание «естественных законов», абсолютного добра и абсолютного зла и тому подобного. В действительности в этом случае ты схватываешь принципы своей эпохи, ситуации, своего верования, идеологии и так далее. Вот собственно, что осталось от моей критики субъективизма — я не разделяю картезианский принцип, в соответствии с которым ясное представление о предмете является истиной. На это представление могут повлиять совершенно банальные вещи вроде расстройства желудка, или воспоминания о том, как бабушка поймала тебя на краже мармелада. Так что мое сознание детерминировано в такой степени, что я просто не могу верить, что ему, как воплощению моей субъективности, доступно нечто абсолютное. Вот почему я, в том числе и на терминологическом уровне, принимаю определение истины, данное американскими и британскими философами-прагматистами: «Истина — то, что хорошо для нас».
Вы скажете, конечно, что если говоришь «для нас», то это значит также «для нас с тобой», «для нашего общества», «для нашей эпохи». В общем, это прагматизм, связанный с историзмом. То есть я не могу принимать абсолютные решения — мнимое абсолютное решение выдает в тебе субъекта, наделенного наиболее очевидными объективно присущими обществу чертами. Люди, верящие в истину, крайне опасны — это агенты «здравого смысла». И если я заявляю, что я — коммунист, на Западе меня всегда спрашивают: «Как можно быть коммунистом?»,— подразумевая, что я нахожусь вне логики задающих этот вопрос. Но эта логика, в свою очередь, исторически обусловлена как логика финансового капитала. Во многом то, что считается истиной, является всего лишь истиной ограниченной, находящейся внутри структуры мейнстрима.
Все просто — нельзя писать прокоммунистические статьи в крупнейшие итальянские газеты. Если вы философ, то вы можете, конечно, представить коммунизм как чистую утопию, которой нет места в реальности. Но вас не воспримут серьезно. Во многом субъективность в новое время была связана с фундаментальной идеей способности уловить абсолютную истину. И это давняя западная традиция, берущая свое начало от «Пира» Платона — любовь чистого интеллектуала, чистого интеллекта к идеям. А это в конечном итоге невозможно. Сам Платон был аристократом и не видел в простом ремесленнике способности открыть в себе чистый разум, конечно, он этого и не исключал. Но он был тем, кто двигался в горизонте представлений своих современников — таких же аристократов. В одном из его диалогов, кстати, можно найти момент, в котором раб доказывает теорему Пифагора, но все равно он это делает под строгим руководством посвященного. Короче, раб может стать порядочным реакционером, будучи ведомым таким же реакционным господином. Эта идея истины для меня теперь — большая проблема. Если мы возьмем экономическую науку, руководящую экономической политикой Европы ныне, то мы просто обнаружим, что экономисты лишь делают вид, что все знают объективно. А их знания ограничены определенной логикой, определенной системой, предрассудками, инструментарием и многим другим. Но именно от этого мы и страдаем — они фактически на практике демонстрируют свою неправоту. Кстати, вот вам и совмещение теорий с практиками.
— Давайте вернемся к вашему давнему тезису об обществе ненасильственных коммуникаций. Вы говорите о легитимности всех интерпретаций в рамках такого общества. Помнится, в свое время Делез ставил в заслугу Фуко то, что он научил нас принципу: «Говорить за других — это подлость». Возможно, и вы разделяете этот подход. Но не прервет ли это коммуникацию как таковую? Ведь повод для общения исчезает, коль скоро нет смысла оспаривать ту или иную интерпретацию?
— Да, но ведь и интерпретация — способ уподобления, описания чего-либо, воспринятого своими собственными глазами. А коммуникация здесь становится возможной в силу того, что твои глаза не есть просто твои собственные глаза. Они — глаза группы. Ведь ты разговариваешь на языке, следовательно, ты излагаешь свою интерпретацию внутри некой структуры, язык которой ты разделяешь. В противном случае, ты не мог бы общаться. Ну или перешел бы на язык жестов. Но опять же — речь идет о языке. Во многом всякая интерпретация — способ отношения со словом (или словами) через другие слова, которые мы произносим при общении. Нам нужен общий язык, в первую очередь. Так что интерпретация и предложение интерпретации в данном случае есть способ движения в общем языке — то, что Соссюр называл диалектикой слова и языка. Иными словами, есть общий язык, используемый мной в смысле, который ты можешь понимать или нет, но при этом есть основа для понимания. И таким образом, если я выскажу свою интерпретацию, ты не оставишь ее в стороне, а интерпретируешь ее в свою очередь. То есть речь вовсе не о случайном столкновении двух объектов. Мы говорим друг с другом, слушаем друг друга, понимаем друг друга, отвечаем друг другу, говорим друг другу, где мы ошиблись, где не поняли один другого, чего не усмотрели. В общем, речь в большей или меньшей степени идет о диалоге. Интерпретации не могут себя легитимизировать сами. Они делают это посредством объяснений.
«Настаивать на интерпретации — значит критиковать официальную истину. Мы знаем, что она также является интерпретацией, это важно, потому что если вы открываете, что государственная правда, правда папы или ЦК — всего лишь интерпретация, вы получаете свободу оспаривать ее».
Идея множественности интерпретаций важна в силу того, что для меня она проясняет следующее: нет чистой рефлексии вещей таких, какими они являются. Это начинается с Канта, говорившего про априорные формы, которые для него были универсальными. То есть в его случае речь шла о субъективном вторжении в знание, но это было не так важно, ибо любое мыслящее существо вело себя точно также. Так что речь тут шла о некой универсальной субъективности, а по сути — объективности. Но после Канта появилось еще и историческое сознание — априорные формы стали исторически подвижными. Наше отношение к миру теперь определяется не по Канту, а по Гегелю, в терминах историзма.
Настаивать на интерпретации — значит критиковать официальную истину. Мы знаем, что она также является интерпретацией, это важно, потому что если вы открываете, что государственная правда, правда папы или ЦК — всего лишь интерпретация, вы получаете свободу оспаривать ее. Истина — результат соглашения, а не простого отражения. Я не вижу истину — я вижу нечто с определенной точки зрения, и оно представляется мне таковым, каким я его вижу. Если у моего собеседника нет возражений, то мы идем дальше. Тут я соглашаюсь с Поппером. Истина — это то, что до сих пор еще не опровергнуто. Такому пониманию противостоит авторитарное мышление, которому представляется, что ему доступна истина, которую все обязаны принять. Достаточно ли этого? Во всяком случае, я так считаю. Почему я должен верить, что моим глазам доступна объективная универсальная истина на все времена? Это лишь правда ситуации, которую мы можем принять.

— Вы также говорили об обществе тотальной коммуникации, а, следовательно, об обществе, в котором крайне затруднено создание беньяминовской ауры произведения искусства. Что же происходит с последним?
— Мое эстетическое видение определяется двумя началами. В первую очередь надо упомянуть моего учителя из Турина — Луиджи Парейсона. Не знаю, переведен ил он на русский, но, во всяком случае, он создал эстетическую теорию, в соответствии с которой произведение искусства есть пример успешной формы. Об этом сложно говорить, но, в сущности, вопрос стоял так: что бы я назвал прекрасным? Парейсон, изучив эстетику немецкого идеализма, пришел к выводу о том, что произведение искусства — это успешное воплощение в форме замысла художника. Кстати, обратимся к Гегелю: в его трактовке произведение искусства есть совершенное взаимопроникновение внутреннего и внешнего аспекта. В произведении искусства нет ничего невыраженного. То есть выражение, художественное высказывание, идентифицировалось в большей или меньшей степени с намерением, интенцией. И это был идеалистический тезис относительно прекрасного. В общем, идеализм и был философией совершенного воплощения идей. Так что в Новое время произведение искусства и было таким совершенным воплощением идеи в материале. Даже в этике речь шла о реализации положительных интенций. Но если вы в действительности плохой человек, то «добрыми намерениями» способны выложить дорогу и в Гулаг. Поэтому, кстати, нельзя говорить о прекрасном вне связи с нравственным. Короче, Парейсон воспринял традицию немецкого идеализма.
Хайдеггер же характеризовал произведение искусства как работающую, действующую истину: Ins werk setzen der wahrheit. Он хотел заставить истину работать («истина сущего полагает себя в творение» или «искусство есть произведение истины в действительность»). Конечно, первое о чем вы думаете — а правдиво ли то, что вы выражаете в произведении искусства? Итак, важно следующее — невозможно мыслить в категориях успешной реализации. Речь должна идти скорее об историческом посвящении. Вот почему мы говорим об оригинальности произведения искусства. А это было крайне важно для Нового времени — тогда художник мыслился как гений. А Хайдеггер берет все это и говорит о произведении искусства как о действующей истине. Но это не может быть истина суждения. Есть ли смысл писать поэму о том, что идет снег или дождь? Так какую же правду заставляет работать искусство?
На самом деле произведение искусства проводит историческую инициацию нового языка. Мой французский друг, Мишель Дюфренн, умерший уже много лет назад, объяснял эту идею Хайдеггера, вводя для определения ее новый термин quasi-sujet — «почти субъект». То есть произведение действует. Предположим, если я вас знаю, то не думаю, не размышляю над тем, что передо мной какой-то очередной человек, или особенно, если я влюбляюсь в кого-то. Также и с искусством — если я читаю Достоевского, Толстого, Рильке, это не просто очередная книга — что-то происходит со мной. В этом смысле Хайдеггер и говорил об открытии истины. У вас в сознании в первую очередь возникают лучшие образцы Западной литературной традиции — Библия, Данте, Шекспир, про которые вы как раз и вспомнили потому, что те инициировали определенную ситуацию. Итак, произведение искусства принадлежит истории, оно раскрывает, изобретает новую парадигму. Но в том же эссе, где Хайдеггер говорит о произведении искусства как о действующей истине, он замечает, что нечто подобное происходит и с политическим порядком, то есть создать произведение искусства — совершить революцию. Он не говорил более про политический порядок после этого эссе, потому, что произошла одна, мягко говоря, неувязка — Хайдеггер, ведь, однажды стал нацистом. И после войны он уже не хотел более участвовать в политике. Так что он оставил себе для рассмотрения только вопросы интеллектуального отношения к произведению искусства.
«Парейсон, изучив эстетику немецкого идеализма, пришел к выводу о том, что произведение искусства — это успешное воплощение в форме замысла художника. То есть выражение, художественное высказывание, идентифицировалось в большей или меньшей степени с намерением, интенцией».
Понимание Хайдеггером произведения искусства сильно связано с историей авангардизма в ХХ веке, ибо невозможно сказать, что кубизм — просто очередная форма отражения реальности. И да, и нет! Или если Дюшан посылает на выставку писсуар, нельзя сказать: «Вот очередное произведение искусства». Или когда Джойс пишет «Уллиса», он не создает просто еще один роман, отражающий другие. Речь идет своего рода революции. В этом смысле Хайдеггер был авангардистом и во многом подменял своим пониманием произведения искусства ожидание политической революции. Я проделываю обратную операцию — начинаю разговор о произведении искусства, чтобы прийти к вопросу о политической революции. Но во многом я нахожу важным подчеркнуть следующее: произведение искусства меняет нечто в истории. Меняет человека, но никогда не делает это индивидуально — вы на виду, вы точка, но в истории. Так что если вы в этих терминах рассматриваете политику, то у вас есть теория революции.
Но откуда же приходит произведение искусства? Здесь мы сталкиваемся с романтическим аспектом у Хайдеггера и его связи с политикой. Революция не может быть простым изменением общества. Это переворот. И это не так-то легко понять. Важнейшим тут является историческая новация. Новация в истории эстетического субъекта, который создает произведение или наслаждается им, или новация в истории общества. Даже живописцы все меньше и меньше работают на выставки, все меньше создают для экспонирования в салонах. Они создают события, инсталляции, включают иные обстоятельства. Всегда можно пребывать в иллюзии того, что живописец создает новое полотно, которое можно купить, продать, повесить в своем салоне или положить в банковскую ячейку. Но тут как раз и выступает наружу противоречие идеи произведения самоценного, той, что Беньямин называл фетишистской ценностью произведения искусства. Так что во многом я вижу идею Хайдеггера сопоставимой с интенцией лучших художников современности (лучших, конечно, в моем понимании), которые пытаются создать не столько произведение, сколько событие.
У Ницше где-то есть высказывание, гласящее, что мы более не принадлежим эпохе произведений искусства, что мы их уже не ценим. Кстати, ведь Ницше ожидал революции в искусстве, в том числе он возлагал большие надежды на Вагнера, пусть они не оправдались. Важно другое — произведение искусства поддерживает ожидание. Ожидание скорого возникновения ценного объекта. И это очень беньяминовский подход.

— То есть, если мы продолжим это сравнение, то можно будет заметить, что все революции происходят совершенно неожиданно, и точно таким же образом в нашу эпоху могут появиться крупные произведения, как раз воплощающие в себе принцип деятельной истины.
— Да, конечно. Но, честно говоря, от революции я ожидаю гораздо больше, чем от искусства. Не знаю, что вообще сейчас я бы назвал произведением искусства. Обычное произведение с выставки, как я уже и говорил, слишком связано рынком, с продвижением на рынке и тому подобными вещами. Кстати, это не значит, что я бы отказался от идеи повесить у себя дома на стене понравившуюся мне картину Матисса или Клее. Но я уже не воспринимаю их полотна, как мощные события в истории — нет, они просто украсят мой интерьер. Так что со старой идеей абсолютно неповторимого произведения искусства совершенно нечего делать. В общем, я предпочитаю произведения, с которыми я могу иметь дело как с общественным событием, которое не является предметом, то есть, в том числе не может быть предметом коллекционирования, купли-продажи и так далее. Я предпочитаю хеппенинги, нечто подобное Вудстоку. Конечно, там есть своя мифология. Но даже Гадамер стал верить в то, что подобные события — массовые рок-концерты и фестивали — сейчас гораздо легитимнее как произведения искусства, чем живописные полотна.
«Парейсон, изучив эстетику немецкого идеализма, пришел к выводу о том, что произведение искусства — это успешное воплощение в форме замысла художника. То есть выражение, художественное высказывание, идентифицировалось в большей или меньшей степени с намерением, интенцией».
Что мне больше всего нравится в Беньямине, так это его замечание о том, что побежденные не пишут историю. Официальная история — это история победителей, не побежденных. Материальность земли в революции есть их потребность — потребность слабых. В общем-то, я и предлагаю философию Pensiero debole — философию «Слабой мысли». Идея в том, что единственной формой прогресса в истории может быть сокращение насилия, а не воплощение сильного идеала, идет ли речь об идеале пролетария или капиталиста. В то же время, рождение есть, если не случай насилия, то, по крайней мере, крайне болезненный акт. И несколько лет назад один француз подал иск, суть которого сводилась к обвинению его матери в том, что она не сделала аборт. Короче, он не хотел жить. Парадоксально. Но это беньяминовский вопрос: проигравшие не верят, что существовать лучше, чем не существовать. Они не творят историю. Так вот, когда я говорю о слабой мысли, я говорю о философии, которая верит, что в основании (происхождении) лежит некая форма насилия — война, политическая революция. А далее мы должны сокращать насилие.
Единственное допустимое насилие — случай эвтаназии. Ведь, несмотря на то, что это гуманное убийство, оно не перестает от этого быть крайней формой насилия, как и любое убийство. Положим, некто парализован и не хочет больше жить, но и не может свести счеты с жизнью. Что делать? Предпочесть абстрактный идеал жизни, в силу того, что жизнь всегда лучше смерти? Или предпочесть уважение воле этого человека. Так в общих чертах я мыслю насилие. Для меня сокращение насилия есть сокращение объективных ограничений свободы. Причем уважаться должна именно свобода конкретного человека. Как христианин я уважаю ее, а не «естественный закон» жизни, ведь иногда бывает лучше умереть, или проявить снисхождение и помочь человеку уйти из жизни. Иными словами идея слабой мысли сводится к объявлению абсолютной истины насилием. Я хочу сократить насилие также и в этом смысле, принимая все интерпретации истины, достигая соглашения с ними. Универсальность истины не тождественна абсолютизму истины, тому, что она должна быть безоговорочно принята. Есть суждение, разделяемое множеством людей, полагающих, что это и есть истина. При этом вы имеете полное право высказаться в том духе, что этот вариант истины вас не устраивает и приступить к дискуссии, к сравнению интерпретаций.

— Что-ж, давайте попробуем объединить эстетическую, политическую, философскую и религиозную проблематику в одном вопросе. И даже попробуем связать его с вполне конкретным лицом. Как вы относитесь к фигуре Жижека — наиболее популярного левого философа современности? В чем различие вашего метода и его «рационального коммунизма»?
— Не знаю. Хоть я и знаком с ним лично и могу сказать, что он мне нравится как человек. Честно говоря, я никогда особо не понимал, что он хочет сказать в смысле философии. Мне нравится его несколько скандализирующий подход, его попытки перевернуть все. Но есть в Жижеке нечто, что меня немного беспокоит — это Лакан. Когда он говорит о Лакане, я перестаю понимать что бы то ни было. Я останавливаюсь. Я хотел бы понять его лучше, но бросаю книгу, если с самого начала не понимаю, зачем мне ее читать. Может я просто слишком ленив. Это вопрос циркуляции интерпретаций, то есть у вас должно быть некое предварительное понимание текста, прежде чем вы начнете его читать. Вы должны знать изначально, что вы ищите в книге? Что до Жижека, то я могу его прочитать в силу личного знакомства, но этого недостаточно. Кстати, я думаю, что мы во многом с ним согласны. Мы с ним принимали участие во множестве международных конференций и прочих мероприятиях. Но почему я должен сталкиваться с Жижеком, отличаться от него, противоречить ему? Скажите! Ведь на самом деле мне бы этого хотелось, я просто не понимаю, зачем?
— Возможно стоит вспомнить одну из его недавних статей, в которой он с весьма неожиданной стороны подошел к проблемам исламской культуры? Ведь вы соотносите себя с традицией будто бы враждебной исламу со времен Крестовых походов. Вы говорили про христианский социализм, не противоречит ли ему увязывание социализма и ислама?
— Опять же не знаю. Ведь для меня христианство — это Европа. Я даже книжку написал «Социализм и Европа», намекая на известное произведение Новалиса «Христианство и Европа». И знаете, возможно, христианство — это исключительно Европа. Оно везде распространено, но в конечном итоге на базе Европейского колониализма. В ту же Латинскую Америку его принесли испанские конкистадоры. И теперь вы находите христианство там, где побывала европейская цивилизация, европейская технология, европейская коммерция. Конечно, теперь мы сталкиваемся с тем фактом, что Китай перенимает европейские технологии, которые, впрочем, являются развитием китайских, если мы вспомним про тот же порох.
«Рождение есть, если не случай насилия, то, по крайней мере, крайне болезненный акт. И несколько лет назад один француз подал иск, суть которого сводилась к обвинению его матери в том, что она не сделала аборт. Короче, он не хотел жить. Парадоксально».
Так вот, в данном случае речь идет о чувстве принадлежности к христианству. Не в силу того, что я верю в какие-то догмы, а в силу того, что я принадлежу современному позднехристианскому миру. Во многом христианство и современная культура тождественны, или как минимум взаимосоотносимы. Кстати, социализм также принадлежит современной культуре, культуре Нового времени. Маркс был мыслителем XIX века. Мне представляется, что вопрос не в том, чтобы сблизить христианскую и исламскую теологии. Это вопрос возможности сосуществования христианского и исламского миров. Я не думаю, что столь важны доктрины. Мне представляется, что важны исторические миры. Я не ищу истины общей для христианской и исламской интерпретаций. Ну да — обе эти религии основываются на монотеизме, но вот это как раз один из пунктов, в которых я больше всего сомневаюсь — ведь именно с монотеизма начинаются религиозные войны.
Итак, я верю в то, что это вопрос в большей степени политического взаимопроникновения, нежели доктринального диалога. Но нет никакого диалога! Возьмите все эти мероприятия, посвященные диалогу религий. Представьте себе встречу папы с Далай-ламой: они встречаются, проявляют друг к другу видимое уважение, говорят один другому «Ваше святейшество», «Ваше преосвященство», но каждый потом идет своей дорогой. Представьте, что Папа идет в капеллу и молится за несчастного Далай-ламу, который не обращается в католицизм, а, следовательно, неизбежно попадет в ад. Это абсурд. Так что доктринальный диалог абсолютно бесполезен, кроме того, и организуются такие мероприятия по большей части под эгидой ООН, которая подконтрольна США, так что не стоит особо всему этому доверять.
Но важно, чтобы эти миры попытались понять друг друга политически и экономически. Ведь почему мусульмане представляют опасность для христианства? От того, что они не верят в Троицу? Отнюдь. Их просто слишком долго эксплуатировал Запад. Естественно, если речь пойдет о прямой агрессии с их стороны, то другого выбора — кроме как защищать себя — не останется, если я, конечно, не желаю быть убитым исламистами. Но именно чтобы этого не случилось, следует сделать более мирными наши отношения. Не столь важно понимать догмы друг друга. Пусть каждый останется при своей религиозной точке зрения до момента, конечно, пока кто-то не зайдет в ее отстаивании так далеко, что начнет запрещать мое собственное верование.
В общем, это не так важно. Даже этика. Христианская этика уже фактически не практикуется в мире. Как-то на празднование одного из юбилеев Папы римского съехалось 300 000 молодых людей в Риме, кричавших: «Папа! Папа!». Ну, а на следующий день в местах их скоплений было обнаружено 300 000 использованных презервативов. То есть в смысле этики они к папе не прислушивались. Тем не менее, в целом они все уважительно относятся к этике — они не террористы, они придерживаются социальной дисциплины, в чем им, конечно, отчасти помогает и церковная проповедь. Но в общем проблема доктринальной этики давно снята — наша этика — этика западного мейнстрима. И не важно, идет ли кто-то в церковь или нет — это мало что решает. Далеко не все, посещающие церковь, серьезно воспринимают христианскую этику. И далеко не всякий, кто этого не делает, является отрицательным персонажем с ее точки зрения. Так что это вопрос цивилизации. Не уверен, что я действительно его разрешил, так что это оригинальный, новый, революционный тезис.
Источник: theoryandpractice.ru
Портал БАШНЯ. Копирование, Перепечатка возможна при указании активной ссылки на данную страницу.