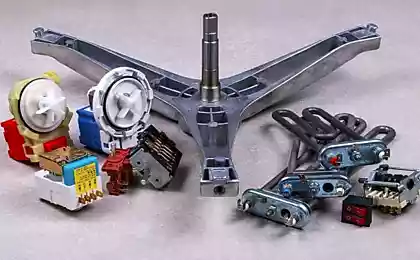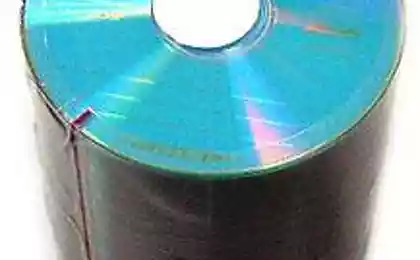585
0.1
2016-09-20
«Простое молчание и вслушивание могут изменить вашу жизнь»: интервью с Дэвидом Тупом
Дэвид Туп — музыкант-импровизатор, работавший с Джоном Зорном и Эваном Паркером, саунд-артист, автор первого серьезного исследования хип-хопа «Рэп-атака» и один из самых влиятельных музыкальных критиков, ставший своеобразным культом журнала Wire. Свои книги Туп строит как личные дневники, прослеживая историю зарождения музыкальных стилей и описывая все возможные способы бытования звука. Мы поговорили с музыкантом накануне его лекции в рамках программы Selector PRO, организованной Британским Советом совместно с институтом «Стрелка».

— Я бы хотел начать разговор с термина «далекая музыка», который вы позаимствовали у Джеймса Джойса и который применяете к совершенно разной музыке, от григорианского хорала до Panda Bear. Правильно ли будет понимать вашу концепцию в том смысле, что абстрактное, едва различимое звучание лучше всего выражает загадочную природу человека?
Я думаю, это связано с идеей «неуловимого фантома жизни» (цитата из романа «Моби Дик». — Прим. ред.). Это отсылает нас к одной из главных проблем — проблеме сознания, которое мы не до конца понимаем. Что, в свою очередь, означает, что мы не до конца понимаем, кто мы такие по отношению к той реальности, которая нас окружает. Мне кажется, что такого рода удаленная, едва воспринимаемая музыка представляет собой некий символ. Вообще музыка, с ее неосязаемостью, невидимостью и кажущейся бесформенностью, сама по себе является хорошей метафорой, способной выразить недостаток понимания того, кто мы такие.
— В вашей последней книге Sinister Resonance вы пишете об истории слушания, о том, как до изобретения механической аудиозаписи звук репрезентировался в немых искусствах, в частности, в живописи. Это связано с тем, как работает наше воображение, или с взаимовлиянием разных видов чувственного восприятия?
Для меня здесь важна именно связь между чувствами. Мы не воспринимаем мир отдельными порциями информации. В какой-то момент я изменил свой взгляд на живопись, начал смотреть на нее во всей тотальности чувственного восприятия — как, например, мы воспринимаем впервые любого человека, замечая множество разных вещей одновременно. Так я начал мыслить внутри картин и «слушать» их. Нам это знакомо по литературе, которая в этом смысле более понятна — она описывает множество разных чувств и мыслей. Тем не менее, еще ни один историк искусства не отнесся серьезно к моей концепции. Немногие из них станут воспринимать картину как звуковую репрезентацию. Кроме того, я не могу с точностью доказать, что это существует.
— С другой стороны, нам ведь позволено искать в живописи нарративы, почему бы в таком случае не искать в ней звуки?
— Именно. Вообще в последние годы с ростом популярного искусствоведения идея нарратива стала повсеместной, потому что люди ее легко понимают. Им нравится идея, что за всем стоит какая-то история. Но если это можно делать, почему нельзя сказать, что ощущение тишины в картине было сознательно привнесено художником? Думаю, мне можно придумывать такие теории, ведь я не историк искусства, моя работа не зависит от того, чтобы придумать какую-нибудь состоятельную теорию.
— Вы много писали о том, как за каждым конкретным звуком у человека закрепляются определенные ассоциации, которые позволяют звукам непосредственно воздействовать на наши эмоции: страх, вызываемый некоторыми сигнальными звуками, или чувство одиночества и тревоги, ассоциируемое с тишиной. Почему, на ваш взгляд, мелодия, гармония и ритм имеют в целом такое сильное эмоциональное воздействие на людей? Если все дело в глубокой памяти и ассоциациях, то какие-то менее конвенциональные формы, например, полевые записи, могли бы быть более эффективными в этом смысле.
— Ваш вопрос состоит из нескольких частей. Я думаю, вы правы в том, что полевые записи могут потенциально служить мощным средством для воздействия на глубокую память, которая связана с нашими эмоциональными переживаниями. Однако большинство не знает о способах такого использования полевых записей. Я приведу небольшой пример. Пару недель назад я прогуливался со своими студентами по берегу Темзы. Наш мини-курс посвящен теме связи звука с водой. Мы просто шли молча и вслушивались. В конце дня один из студентов сказал, что это была одна из самых невероятных вещей, которые случались с ним в жизни. А мы ничего не делали, просто гуляли на протяжении пятнадцати минут! Простое молчание и вслушивание могут изменить вашу жизнь. То же самое с полевыми записями. Вы можете проиграть запись кому угодно (я не люблю понятие «обычные люди», но вы понимаете, что я имею в виду — кто-то далекий от этих вещей), и эта запись окажет сильное воздействие, потому что будет новым опытом.
Тема конвенциональности в музыке всегда была одной из самых важных для меня. Мы вырастаем в определенной культурной среде, которая сопровождает нас с самого рождения, а возможно и до рождения. Определенные звуковысотные соотношения, ритмические структуры дают нам ощущение какого-то комфорта. Я довольно рано осознал, что эта культурная рамка делает меня человеком, которым я не хочу быть. Когда я начал открывать для себя музыку других культур и биоакустику — звуки птиц, млекопитающих, насекомых, рыб, — я настолько глубоко погрузился в эти звуки, что практически перестал различать темперированный строй, консонансы и регулярные ритмы. За почти полвека такое слушание, думаю, изменило мой слух. Тем не менее, я люблю слушать приятную последовательность аккордов или играть ее, как гитарист. В ней я замечаю наше стремление к разрешению, которое возникло в результате рациональной формализации много веков назад.
Одна из вещей, которую я наблюдаю в течение всей жизни, это постепенное исчезновение альтернативных музыкальных подходов к музыке. Они умирают подобно тому, как исчезают виды животных. Важно вести запись — в буквальном смысле — этих форм, потому что они показывают другие способы существования человека.
— В книге «Океан звука» вы описываете определенную парадигму европейской музыки, которая началась с Дебюсси, когда он впервые услышал яванский гамелан. Эту парадигму вы характеризуете принципиальной открытостью формы. Вы считаете, что эта открытость была достигнута только благодаря незападным музыкальным практикам?
— Я выбрал Дебюсси как отправную точку, потому что это был важный момент начала формальной открытости, но также и момент признания того, что европейцы — не самые развитые существа не планете. Дебюсси признал, что некоторые аспекты яванской музыки превосходят по качеству европейские образцы. Это была практически непозволительная позиция для европейца в то время. Но если послушать эти старые яванские гамеланы, вы заметите, насколько они необычны с точки зрения синхронности — люди более-менее играют каждый в своем собственном темпе. Нам же кажется, что все должно быть замкнуто, и это объясняет природу социальных отношений, в которых мы живем: если ты выбиваешься, то сразу становишься отщепенцем. Но является ли эта открытая форма характеристикой только незападной музыки? Я не уверен в том, что считать Западом. Необязательно уходить далеко, чтобы найти что-то принципиально иное и отличное.
— Интерес европейцев к Востоку в XIX веке, как известно, был важным компонентом колониализма. Сегодняшний интерес к экзотической музыке во многом связан с глобальным туристическим рынком. Как вам кажется, радикальный поворот экспериментальной музыки к Востоку в середине XX века, в частности, у Джона Кейджа, не имел никакого отношения к тому же колониализму?
— Я думаю, он безусловно имел отношение к колониализму. Последствия колониализма будут изживаться еще не одно столетие, настолько это отравленное наследие. Точно так же, как рабство до сих пор является насущной проблемой в США и Великобритании. Нас окружают последствия колониальной политики XIX века, как и новый колониализм, примером которого служат корпорации вроде Apple. Я думаю, это очень сложная проблема. Я написал книгу «Экзотика», в которой попытался описать эту проблему. В каком-то смысле это было самоисследование, попытка разобраться в том, насколько я в это вовлечен. Я склоняюсь к тому, что было все-таки важнее понять другие культурные формы, чем попытаться убежать от них. В 1970-х это было предметом жесткой политической борьбы, тогда же Корнелиус Кардью написал «Штокхаузен служит империализму». В то время казалось, что нужно делать нечто подлинно локальное. Сегодня мы живем в глобальном мире, мы с вами одновременно говорим по скайпу, при том что я нахожусь в Лондоне, а вы…
— В Москве.
— Вы в Москве. Так что эта идея больше не имеет никакого смысла. В конечном счете самое главное всегда — это властные отношения. Если вы заимствуете элементы музыки пигмеев из Конго просто ради экзотики, не интересуясь тем, как сделана эта музыка и каково ее значение, тогда это относится к тому, что мы обсуждаем. Кейдж говорил много странных вещей, многие из которых были в этом экзотическом русле, но он был человеком своего времени. Один из самых удивительных фактов о Кейдже — это то, что он ненавидел джаз. При этом он жил на Манхэттене, в окружении великолепной джазовой сцены и сцены латинской музыки. Он критиковал джаз за регулярный ритм, хотя у самого Кейджа многие произведения имеют регулярный ритм. По всей видимости, это выходило за пределы того, чем он стремился быть. Он больше интересовался китайской бронзой, чем Чарли Паркером и Тито Пуэнте, и это очень странно.
— Как будто он старался максимально отгородиться от того, что его окружало.
— Да, а почти все его эссе говорят: прими то, что тебя окружает. Возвращаясь к вашему вопросу, это комплексная проблема, с которой я сталкиваюсь всю жизнь. Моя первая книга была посвящена хип-хопу. Сейчас она уже получила некоторое признание, но вначале меня атаковали критики со всех сторон: почему белый англичанин пишет о хип-хопе? Думаю, дело в том, что люди хотят точно знать, что ты не используешь что-то только ради своей карьеры. Недавно было обсуждение, посвященное тридцатилетию выхода книги. Я опасался, что встречу ту же критику. Но аудитория оказалась приятной, было много черных людей средних лет, которые держали в руках экземпляры издания 1984 года и говорили, насколько это была важная книга, потому что она поставила эту музыку в определенный контекст. А в то время мне говорили: «Зачем писать книгу о хип-хопе? Это пустое явление, которое долго не протянет». Я же отвечал, что не считаю его пустым явлением, а напротив, считаю серьезной музыкой с глубокими корнями. Но тогда даже я не мог быть уверенным, что эта музыка не исчезнет через год. И я не мог предвидеть, что она так разрастется.
— Возвращаясь к теме открытой формы в западной музыке XX века. В том же «Океане звука» вы приводите разговор с Брайаном Ино и его слова о том, что он фокусировался на слушании, а не создании музыки, когда произвел на свет эмбиент. Как, по-вашему, стало возможным, что эта открытая форма получила распространение в популярной музыке, которая всегда выполняет определенную рыночную функцию?
— Это хороший вопрос. Во-первых, я не думаю, что можно свети популярную музыку только к ее рыночной функции. Так считал Адорно: она служит лишь манипуляции для зарабатывания денег. Но как мы видим, популярная музыка не исчезает со временем, популярные песни пятидесятых и шестидесятых годов продолжают любить, потому что эта музыка имеет глубокую эмоциональную составляющую. Во-вторых, она также отражает разные стороны общества. Самый очевидный пример — это рок-н-ролл 1950-х и то, как он помог изменить наше мышление в области межрасовых отношений. Популярная музыка действительно хорошо подходит для мира коммерции, но то же самое можно сказать практически про любую музыку. Недавно я закончил работу над книгой о свободной импровизации. А свободная импровизация — это, пожалуй, единственная музыка, которую невозможно использовать в рекламе. Любую другую музыку — эмбиент, техно, рок — можно использовать для рекламы духов или автомобилей.
Что касается возникновения экспериментальных электронных направлений, к этому имеют отношение несколько вещей. В конце восьмидесятых в музыке Америки и Великобритании был резкий поворот к коммерциализации. На это последовала реакция внутри самой популярной музыки. Девяностые также были интересным временем с точки зрения авангарда популярной музыки — с эйсид-хаусом и прочим. Людям казалось, что они движутся по направлению какой-то принципиально иной жизни, что во многом было спровоцировано наркотиками. Мы знаем, что такие вещи временные: люди принимают наркотики, ведут себя необычно, но со временем оказываются конформистами с самой заурядной работой. Это одна из причин, по которой я никогда по-настоящему не увлекался наркотиками — нужно продолжать углубляться, не останавливаясь.
— Вы упомянули работу над книгой о свободной импровизации. В понятие «свободный» обычно вкладывают много разных смыслов. Как вы сами это понимаете в контексте импровизационной музыки?
— Подзаголовок моей книги — «Музыкальная импровизация и мечта о свободе». Так что проблема свободы действительно занимает в ней существенное место. Когда свободная импровизация начала резко распространяться в середине шестидесятых, тогда все говорили о свободе. Сегодня понятие «свобода» стало практически словом правых: вы делаете то, что хотите, без всякой ответственности. Между тем, свободная импровизация была музыкой с чувством ответственности, потому что люди хотели создавать музыку группой, чтобы никто не предопределял результат, будь то композитор или дирижер.
— Адорно говорил о дирижере как о практически авторитарной фигуре, учитывая, какую власть он имеет при несоответствующем ей вкладе в музыкальный процесс.
— Сегодня это довольно очевидная мысль. Властные отношения, выраженные в разных музыкальных формах, очевидны. Мы приходим на концерт классической музыки со всем его абсурдом — последним выходит дирижер, он получает громогласные аплодисменты, ему приносят цветы, — и понимаем, что это выражение определенного представления о том, каким должно быть устройство общества. В свободной импровизации изначально была установка: как мы можем создавать музыку группой без какой-либо инструкции? Есть еще одна важная черта свободной импровизации, общая у нее с хип-хопом — она живет дольше, чем кто-либо мог вообразить. Люди думали, что она исчезнет где-то в семидесятых, вместе с теми идеями, которые ее вдохновили. А сегодня мы имеем электроакустическую импровизацию и множество других форм.
Я думаю, сегодня мы находимся в глубоком кризисе, политическом и экономическом. Каким-то странным образом эти малозначительные занятия, которые всегда всех раздражали, становятся очень важными. Потому что они говорят нам: можно организовываться по-другому. Может быть, это не работает в глобальном масштабе, зато прекрасно работает на уровне небольших сообществ. И куда бы я ни приехал, по всему миру я вижу людей, занимающиеся свободной импровизацией в своем собственном ключе. Это может нас чему-то научить.опубликовано
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание — мы вместе изменяем мир! ©
Источник: theoryandpractice.ru

— Я бы хотел начать разговор с термина «далекая музыка», который вы позаимствовали у Джеймса Джойса и который применяете к совершенно разной музыке, от григорианского хорала до Panda Bear. Правильно ли будет понимать вашу концепцию в том смысле, что абстрактное, едва различимое звучание лучше всего выражает загадочную природу человека?
Я думаю, это связано с идеей «неуловимого фантома жизни» (цитата из романа «Моби Дик». — Прим. ред.). Это отсылает нас к одной из главных проблем — проблеме сознания, которое мы не до конца понимаем. Что, в свою очередь, означает, что мы не до конца понимаем, кто мы такие по отношению к той реальности, которая нас окружает. Мне кажется, что такого рода удаленная, едва воспринимаемая музыка представляет собой некий символ. Вообще музыка, с ее неосязаемостью, невидимостью и кажущейся бесформенностью, сама по себе является хорошей метафорой, способной выразить недостаток понимания того, кто мы такие.
— В вашей последней книге Sinister Resonance вы пишете об истории слушания, о том, как до изобретения механической аудиозаписи звук репрезентировался в немых искусствах, в частности, в живописи. Это связано с тем, как работает наше воображение, или с взаимовлиянием разных видов чувственного восприятия?
Для меня здесь важна именно связь между чувствами. Мы не воспринимаем мир отдельными порциями информации. В какой-то момент я изменил свой взгляд на живопись, начал смотреть на нее во всей тотальности чувственного восприятия — как, например, мы воспринимаем впервые любого человека, замечая множество разных вещей одновременно. Так я начал мыслить внутри картин и «слушать» их. Нам это знакомо по литературе, которая в этом смысле более понятна — она описывает множество разных чувств и мыслей. Тем не менее, еще ни один историк искусства не отнесся серьезно к моей концепции. Немногие из них станут воспринимать картину как звуковую репрезентацию. Кроме того, я не могу с точностью доказать, что это существует.
— С другой стороны, нам ведь позволено искать в живописи нарративы, почему бы в таком случае не искать в ней звуки?
— Именно. Вообще в последние годы с ростом популярного искусствоведения идея нарратива стала повсеместной, потому что люди ее легко понимают. Им нравится идея, что за всем стоит какая-то история. Но если это можно делать, почему нельзя сказать, что ощущение тишины в картине было сознательно привнесено художником? Думаю, мне можно придумывать такие теории, ведь я не историк искусства, моя работа не зависит от того, чтобы придумать какую-нибудь состоятельную теорию.
— Вы много писали о том, как за каждым конкретным звуком у человека закрепляются определенные ассоциации, которые позволяют звукам непосредственно воздействовать на наши эмоции: страх, вызываемый некоторыми сигнальными звуками, или чувство одиночества и тревоги, ассоциируемое с тишиной. Почему, на ваш взгляд, мелодия, гармония и ритм имеют в целом такое сильное эмоциональное воздействие на людей? Если все дело в глубокой памяти и ассоциациях, то какие-то менее конвенциональные формы, например, полевые записи, могли бы быть более эффективными в этом смысле.
— Ваш вопрос состоит из нескольких частей. Я думаю, вы правы в том, что полевые записи могут потенциально служить мощным средством для воздействия на глубокую память, которая связана с нашими эмоциональными переживаниями. Однако большинство не знает о способах такого использования полевых записей. Я приведу небольшой пример. Пару недель назад я прогуливался со своими студентами по берегу Темзы. Наш мини-курс посвящен теме связи звука с водой. Мы просто шли молча и вслушивались. В конце дня один из студентов сказал, что это была одна из самых невероятных вещей, которые случались с ним в жизни. А мы ничего не делали, просто гуляли на протяжении пятнадцати минут! Простое молчание и вслушивание могут изменить вашу жизнь. То же самое с полевыми записями. Вы можете проиграть запись кому угодно (я не люблю понятие «обычные люди», но вы понимаете, что я имею в виду — кто-то далекий от этих вещей), и эта запись окажет сильное воздействие, потому что будет новым опытом.
Тема конвенциональности в музыке всегда была одной из самых важных для меня. Мы вырастаем в определенной культурной среде, которая сопровождает нас с самого рождения, а возможно и до рождения. Определенные звуковысотные соотношения, ритмические структуры дают нам ощущение какого-то комфорта. Я довольно рано осознал, что эта культурная рамка делает меня человеком, которым я не хочу быть. Когда я начал открывать для себя музыку других культур и биоакустику — звуки птиц, млекопитающих, насекомых, рыб, — я настолько глубоко погрузился в эти звуки, что практически перестал различать темперированный строй, консонансы и регулярные ритмы. За почти полвека такое слушание, думаю, изменило мой слух. Тем не менее, я люблю слушать приятную последовательность аккордов или играть ее, как гитарист. В ней я замечаю наше стремление к разрешению, которое возникло в результате рациональной формализации много веков назад.
Одна из вещей, которую я наблюдаю в течение всей жизни, это постепенное исчезновение альтернативных музыкальных подходов к музыке. Они умирают подобно тому, как исчезают виды животных. Важно вести запись — в буквальном смысле — этих форм, потому что они показывают другие способы существования человека.
— В книге «Океан звука» вы описываете определенную парадигму европейской музыки, которая началась с Дебюсси, когда он впервые услышал яванский гамелан. Эту парадигму вы характеризуете принципиальной открытостью формы. Вы считаете, что эта открытость была достигнута только благодаря незападным музыкальным практикам?
— Я выбрал Дебюсси как отправную точку, потому что это был важный момент начала формальной открытости, но также и момент признания того, что европейцы — не самые развитые существа не планете. Дебюсси признал, что некоторые аспекты яванской музыки превосходят по качеству европейские образцы. Это была практически непозволительная позиция для европейца в то время. Но если послушать эти старые яванские гамеланы, вы заметите, насколько они необычны с точки зрения синхронности — люди более-менее играют каждый в своем собственном темпе. Нам же кажется, что все должно быть замкнуто, и это объясняет природу социальных отношений, в которых мы живем: если ты выбиваешься, то сразу становишься отщепенцем. Но является ли эта открытая форма характеристикой только незападной музыки? Я не уверен в том, что считать Западом. Необязательно уходить далеко, чтобы найти что-то принципиально иное и отличное.
— Интерес европейцев к Востоку в XIX веке, как известно, был важным компонентом колониализма. Сегодняшний интерес к экзотической музыке во многом связан с глобальным туристическим рынком. Как вам кажется, радикальный поворот экспериментальной музыки к Востоку в середине XX века, в частности, у Джона Кейджа, не имел никакого отношения к тому же колониализму?
— Я думаю, он безусловно имел отношение к колониализму. Последствия колониализма будут изживаться еще не одно столетие, настолько это отравленное наследие. Точно так же, как рабство до сих пор является насущной проблемой в США и Великобритании. Нас окружают последствия колониальной политики XIX века, как и новый колониализм, примером которого служат корпорации вроде Apple. Я думаю, это очень сложная проблема. Я написал книгу «Экзотика», в которой попытался описать эту проблему. В каком-то смысле это было самоисследование, попытка разобраться в том, насколько я в это вовлечен. Я склоняюсь к тому, что было все-таки важнее понять другие культурные формы, чем попытаться убежать от них. В 1970-х это было предметом жесткой политической борьбы, тогда же Корнелиус Кардью написал «Штокхаузен служит империализму». В то время казалось, что нужно делать нечто подлинно локальное. Сегодня мы живем в глобальном мире, мы с вами одновременно говорим по скайпу, при том что я нахожусь в Лондоне, а вы…
— В Москве.
— Вы в Москве. Так что эта идея больше не имеет никакого смысла. В конечном счете самое главное всегда — это властные отношения. Если вы заимствуете элементы музыки пигмеев из Конго просто ради экзотики, не интересуясь тем, как сделана эта музыка и каково ее значение, тогда это относится к тому, что мы обсуждаем. Кейдж говорил много странных вещей, многие из которых были в этом экзотическом русле, но он был человеком своего времени. Один из самых удивительных фактов о Кейдже — это то, что он ненавидел джаз. При этом он жил на Манхэттене, в окружении великолепной джазовой сцены и сцены латинской музыки. Он критиковал джаз за регулярный ритм, хотя у самого Кейджа многие произведения имеют регулярный ритм. По всей видимости, это выходило за пределы того, чем он стремился быть. Он больше интересовался китайской бронзой, чем Чарли Паркером и Тито Пуэнте, и это очень странно.
— Как будто он старался максимально отгородиться от того, что его окружало.
— Да, а почти все его эссе говорят: прими то, что тебя окружает. Возвращаясь к вашему вопросу, это комплексная проблема, с которой я сталкиваюсь всю жизнь. Моя первая книга была посвящена хип-хопу. Сейчас она уже получила некоторое признание, но вначале меня атаковали критики со всех сторон: почему белый англичанин пишет о хип-хопе? Думаю, дело в том, что люди хотят точно знать, что ты не используешь что-то только ради своей карьеры. Недавно было обсуждение, посвященное тридцатилетию выхода книги. Я опасался, что встречу ту же критику. Но аудитория оказалась приятной, было много черных людей средних лет, которые держали в руках экземпляры издания 1984 года и говорили, насколько это была важная книга, потому что она поставила эту музыку в определенный контекст. А в то время мне говорили: «Зачем писать книгу о хип-хопе? Это пустое явление, которое долго не протянет». Я же отвечал, что не считаю его пустым явлением, а напротив, считаю серьезной музыкой с глубокими корнями. Но тогда даже я не мог быть уверенным, что эта музыка не исчезнет через год. И я не мог предвидеть, что она так разрастется.
— Возвращаясь к теме открытой формы в западной музыке XX века. В том же «Океане звука» вы приводите разговор с Брайаном Ино и его слова о том, что он фокусировался на слушании, а не создании музыки, когда произвел на свет эмбиент. Как, по-вашему, стало возможным, что эта открытая форма получила распространение в популярной музыке, которая всегда выполняет определенную рыночную функцию?
— Это хороший вопрос. Во-первых, я не думаю, что можно свети популярную музыку только к ее рыночной функции. Так считал Адорно: она служит лишь манипуляции для зарабатывания денег. Но как мы видим, популярная музыка не исчезает со временем, популярные песни пятидесятых и шестидесятых годов продолжают любить, потому что эта музыка имеет глубокую эмоциональную составляющую. Во-вторых, она также отражает разные стороны общества. Самый очевидный пример — это рок-н-ролл 1950-х и то, как он помог изменить наше мышление в области межрасовых отношений. Популярная музыка действительно хорошо подходит для мира коммерции, но то же самое можно сказать практически про любую музыку. Недавно я закончил работу над книгой о свободной импровизации. А свободная импровизация — это, пожалуй, единственная музыка, которую невозможно использовать в рекламе. Любую другую музыку — эмбиент, техно, рок — можно использовать для рекламы духов или автомобилей.
Что касается возникновения экспериментальных электронных направлений, к этому имеют отношение несколько вещей. В конце восьмидесятых в музыке Америки и Великобритании был резкий поворот к коммерциализации. На это последовала реакция внутри самой популярной музыки. Девяностые также были интересным временем с точки зрения авангарда популярной музыки — с эйсид-хаусом и прочим. Людям казалось, что они движутся по направлению какой-то принципиально иной жизни, что во многом было спровоцировано наркотиками. Мы знаем, что такие вещи временные: люди принимают наркотики, ведут себя необычно, но со временем оказываются конформистами с самой заурядной работой. Это одна из причин, по которой я никогда по-настоящему не увлекался наркотиками — нужно продолжать углубляться, не останавливаясь.
— Вы упомянули работу над книгой о свободной импровизации. В понятие «свободный» обычно вкладывают много разных смыслов. Как вы сами это понимаете в контексте импровизационной музыки?
— Подзаголовок моей книги — «Музыкальная импровизация и мечта о свободе». Так что проблема свободы действительно занимает в ней существенное место. Когда свободная импровизация начала резко распространяться в середине шестидесятых, тогда все говорили о свободе. Сегодня понятие «свобода» стало практически словом правых: вы делаете то, что хотите, без всякой ответственности. Между тем, свободная импровизация была музыкой с чувством ответственности, потому что люди хотели создавать музыку группой, чтобы никто не предопределял результат, будь то композитор или дирижер.
— Адорно говорил о дирижере как о практически авторитарной фигуре, учитывая, какую власть он имеет при несоответствующем ей вкладе в музыкальный процесс.
— Сегодня это довольно очевидная мысль. Властные отношения, выраженные в разных музыкальных формах, очевидны. Мы приходим на концерт классической музыки со всем его абсурдом — последним выходит дирижер, он получает громогласные аплодисменты, ему приносят цветы, — и понимаем, что это выражение определенного представления о том, каким должно быть устройство общества. В свободной импровизации изначально была установка: как мы можем создавать музыку группой без какой-либо инструкции? Есть еще одна важная черта свободной импровизации, общая у нее с хип-хопом — она живет дольше, чем кто-либо мог вообразить. Люди думали, что она исчезнет где-то в семидесятых, вместе с теми идеями, которые ее вдохновили. А сегодня мы имеем электроакустическую импровизацию и множество других форм.
Я думаю, сегодня мы находимся в глубоком кризисе, политическом и экономическом. Каким-то странным образом эти малозначительные занятия, которые всегда всех раздражали, становятся очень важными. Потому что они говорят нам: можно организовываться по-другому. Может быть, это не работает в глобальном масштабе, зато прекрасно работает на уровне небольших сообществ. И куда бы я ни приехал, по всему миру я вижу людей, занимающиеся свободной импровизацией в своем собственном ключе. Это может нас чему-то научить.опубликовано
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание — мы вместе изменяем мир! ©
Источник: theoryandpractice.ru
Портал БАШНЯ. Копирование, Перепечатка возможна при указании активной ссылки на данную страницу.