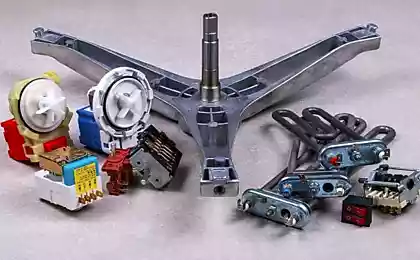740
0.2
2016-04-06
Ёжка
Елена Жалеева
Ульяновск

Подруги ее звали Ёжкой по первым буквам инициалов. Она не обижалась, хотя бы потому, что на курсе ни один парень не остался равнодушным к ней: кто-то долго смотрел ей вслед, и, вздохнув, цокал языком, кто-то ненавидел — несмотря на лидерство и то, что называют обаянием самца, она при всех круто отшивала. Для них она становилась Ягой, чьего языка они опасались и потому называли ее так только за спиной.
Глаза ее, карие от природы, сильно подведенные в стиле а – ля Клеопатра, вкупе с распущенными волосами, что змеились локонами по плечам и спине, притягивали взгляды и мужчин, и женщин. Высокая и гибкая, она могла надеть самый невообразимый балахон, и это становилось модным среди студенток архитектурного факультета, да и не только. Но то, что шло ей, смотрелось гротеском на других. Только она не замечала этого. Она жила тем, что писала или рисовала в данный момент. Проходя мимо мольбертов, она, казалось, не видит лиц рисующих, но если работа ее заинтересовывала, она останавливалась и начинала, вглядываясь в лицо собеседника, задавать вопросы, говорить, чего бы она добавила или убрала из рисунка. А потом несколькими взмахами кисти или карандаша оживляла работу так, что автор больше не притрагивался к ней, боясь испортить. Если она находила собеседника интересным, то шла к нему. Ее мало волновало, что о ней скажут, а говорили многое.
Да и как не говорить, засидевшись за спором, или за рисованием, она оставалась ночевать, без сожаления или стеснения даря себя тому счастливцу, который увлек ее творческой идеей или вдохновением. Говорят, что она спала и с девчонками, но в отличие от парней, они этот факт не рекламировали. Только часто в ее учебных композициях студенты и студентки узнавали себя обнаженных, и поражались, как она могла запомнить особенности фигуры, не делая набросков, видя и прославляя тщедушное тело избранника на одну ночь.
Преподаватели закрывали на все глаза, потому что именно ее работы посылались на всевозможные выставки и представляли творческий потенциал университета. Ее самое удачно изобразил только один из парней, когда она увлеченно писала закат во время пленэра. В купальнике, откидывающей запястьем, потому что пальцы были измазаны краской, волосы, которые упрямо норовили попасть на палитру. За этим этюдом выстроилась очередь из желающих купить его студентов. Она и этого не знала.
Женя, так назвала ее когда-то мать, снимала квартиру. Пенсионерка — далеко не древняя старушка мирилась с причудами квартирантки потому, что оплачивал проживание отец. Наверное, он считал себя виноватым за то, что женился через год после смерти Женькиной матери. Он хотел, чтобы в доме была женщина, умеющая ладить со странным ребенком, не играющим в куклы, подолгу молчащим или рассматривающим вещь, небо, корягу. Но ни он сам, ни мачеха так и не смогли найти к ней подход. Самое лучшее, что они придумали – оставить девочку в покое. Она ела с одинаково отсутствующим видом и деликатес, и холодную картошку. Учила только те предметы, которые ее интересовали.
В старших классах к ним пришел преподаватель рисования и настоятельно попросил записать девочку в художественную школу. Отец был рад, что, хоть кто-то, нашел в его дочери объяснение странностям поведения. Она начала посещать изостудию и на отца сошел благословенный покой. Женя не чокнутая, как иногда шептались соседи, а необычайно одаренная девочка.
Зная, что дочь не будет готовить или прибираться в квартире, он снял комнату и договорился, что женщина два раза в день должна кормить ее. Единственно о чем они не завели разговор, это о том, можно ли ей приводить к себе гостей. Но как выяснится позже, Женя и не собиралась их приглашать, она пропадала сама.
Я познакомилась (это громко сказано) с ней на пленэре после третьего курса, когда художественно-графический и архитектурный факультеты было решено отправить на практику в одно и то же место. Расположились мы неподалеку от местной церквушки, которая стояла на высоком берегу реки. Палаточный лагерь разбили ниже, где бил родник.
Условия проживания, особенно для городских, тяжелые: ни душа, ни туалета, комары, не дающие заснуть, если плотно не зашнуруешь палатку. После трех дней пребывания прически девчонок потеряли первоначальный вид, а на коже всех студентов появились красные зудящие пятна от укусов комаров. И только Женька выглядела так же, как и в университете. Более того от нее исходил запах травы и белого перца, не идущий ни в какое сравнение с дезодорантами.
Девчонкам палец в рот не клади, дай посплетничать, а уж, если они выглядят хуже той, о которой судачат, то тут только слушай. А поскольку Женя никогда не прислушивалась к сплетням, то несли всякие небылицы, что она цыганка (это было похоже на правду, фамилия у нее была – Жемчужная), обладает гипнозом, хотя были и такие, которые считали ее колдуньей, потому что всех парней приворожила.
Однажды я проснулась раньше и, спустившись к реке, увидела, как нагая Женька моет волосы гусиным мылом. Я поняла, почему мальчишки мечтают о ней: узкая в кости, она была статуэткой, с любовью вылепленной создателем. У тонкой в талии Женьки, грудь была округлой и напоминала зрелый гранат, а на бедрах ни капельки лишнего жира. Тогда, честно говоря, я сначала подумала, что и впрямь она колдовством занимается, только хрустнувшая под ногой ветка и мой удивленный взгляд, заставили ее обернуться и объяснить, что она при сборах на пленэр забыла и шампунь, и мыло, и мочалку. Теперь вот подручными средствами обходится.
Я предложила ей свой шампунь, которым она будет пользоваться как своим, а потом и вовсе потеряет, так что к концу третьей недели, мне самой пришлось бегать по девчонкам. А вот трава, которой, она терлась, мне понравилась, сейчас я ее, наверное, не смогу отыскать. Она, размоченная в воде, становилась шелковистой мочалкой и, кажется, мылилась, да при этом еще оставляла на теле очень приятный запах.
Может быть за шампунь, потому что отнести меня к когорте особо одаренных живописцев нельзя, Женька предложила написать мой портрет. Мне очень хотелось иметь портрет ее работы, но провинциальное воспитание и слухи о том, как она готовит натуру, заставили сослаться на то, что мой парень не даст спокойно позировать. Женька оглядела меня, как бы, не понимая, что я говорю, и ушла в себя. То есть, вот она разговаривала со мной, а потом стала смотреть сквозь меня. Мне даже захотелось потрогать самое себя, есть ли я на самом деле. Только все это мелочи.
Церковь, вблизи которой мы расположились лагерем, казалась заброшенной. Фасады ее некогда белые осыпались, изгородь, поставленная заслоном от животных, покосилась. Но протертая среди травы тропа, указывала на то, что сюда ходят и даже есть священник. Выяснилось это после того, как Женька, привычно одетая в купальник, разложила этюдник и стала писать пейзаж с церквушкой. Вот тогда-то все и началось. К ней подошел человек в рясе и, стараясь не смотреть на ее наготу, сказал, что на территории храма надо находиться в подобающем виде. Наверное, он бы добавил, что-нибудь нравоучительное, но, увидев этюд, велел ей одеть, да не мужские штаны, а юбку и платком голову прикрыть, тогда он не будет против ее работы над рисунком.
Только Женька, забыв все, глядела на лицо священника. Он был красив необычайно — в этот раз все девчонки двух факультетов были солидарны с ней: то ли от природы такое, то ли загорелое от работы на улице – лицо его было смуглым и бледным одновременно. Большие синие глаза, запавшие и потому особенно выразительные, тонкий хрящеватый нос – напоминали лики с икон, а рот, может быть оттого, что мы не видели говорящих святых, был чувственным. Даже когда он поджимал губы, они выглядели скорее капризно, но не аскетично.
Женька послушалась и на следующий день оделась, как велел священник. Видели бы вы ее, мы — завистницы, когда она вышла с этюдником из палатки, замолчали: юбка, наподобие цыганской, волочилась по земле, белая футболка, оттенила чистую загорелую кожу, а волосы, закрутив на макушке в узел, она повязала платком, кто ее только так научил, ведь, сроду платков не носила. Великомученица – ни дать, ни взять, а может, она ей и была. Только Женька, не видя наших взглядов, прошествовала босая к церкви. Нас распирало любопытство и, немного погодя, мы пошли следом.
Не было в нас тогда никакой святости, а Бог был. Поднимаясь наверх и цепляясь за корневища деревьев, что торчали из крутого берега, Валька с архитектурного, крупная и полная девчонка, сорвалась и скатилась вниз. Нам с Танькой пришлось съехать по глиняной тропе к ней. Но она отмахнулась, идите, мол, а то пропустите все интересное. Мы почти бегом помчались за далеко ушедшей однокурсницей.
Но начало встречи пропустили, потому что и священник, и Женя, поговорив немного у входа в церковь, вошли внутрь. А мы, еще бегали, искали окно, из которого их будет видно. Но, не найдя ничего лучшего, вошли в церковный придел и стали заглядывать в приоткрытую дверь.
Странно тихо и спокойно было внутри.
Полумрак церкви ближе к алтарю теплился желтым сиянием свечек, освещавших лики святых на иконах, а священник и Женька стояли справа в столбе солнечного света, падающего из окна сверху.
Пылинки кружились и сверкали в нем, создавая ореол таинства.
Запах ладана напомнили мне о покойниках и по спине пробежал холодок. Но отвлекаться было некогда, потому что, упустив начало разговора, мы не сразу поняли, о чем идет речь.
— А как обращаются к священникам? – Женька видимо тоже была в церкви впервые.
— Ты можешь называть меня просто — батюшка или отец Прокл.
— Хорошо, отец Прокл, а о чем говорят на исповеди?
— На исповеди люди говорят о том, что мучает их душу, не дает покоя, о прегрешения.
— Батюшка, — услышав это обращение Женьки к мужчине, который был немного старше ее, мы с Танькой чуть не прыснули со смеху, но вовремя закрыли рты.
— Батюшка, — повторила она, — я люблю рисовать. Я рисую все: вещи, дома, деревья, людей. И у всего есть душа. Вот, к примеру, дотронулась я вчера до березы, ну, той, старой, что у тропы в церковь растет, а она сучковатыми ветками ко мне потянулась и жалуется, что скрипят они у нее, больно ей – к дождю верно. Или Ваша церковь, погладила я ей оспинки осыпавшейся извести, а она мне говорит: «Рисуй, рисуй меня больную. Только я здоровее и моложе тебя стану через пару десятков лет». Вот я и рисую, — Женька помялась. Потом продолжила:
— Сложнее с людьми, пустые они в суете своей. Хотят свой портрет: оденутся парадно, прическу сделают, а на рисунке только тщеславие получается, — мы с Танькой переглянулись – вот, значит, мы какие.
Батюшка, привыкший к исповедям старых прихожанок, которые каялись в злобе к близким, в мелком воровстве, пьянстве или блуде, слушал молодую девушку с интересом.
— Иногда, — продолжила Женька, — люди вспыхивают изнутри от жалости к кому-то, любви или вдохновения и тогда душа у них, как на ладони. В этот момент мне их любить хочется. Нет, не так, не по — Вашему. Я должна дотронуться кончиками пальцев и до лица, и до тела. Вы знаете, батюшка, в этот самый миг, ну Вы знаете, о каком я говорю, — девушка поглядела на священника, а он опустил веки, прикрывая блеск глаз, — вот в этот миг сразу становится понятно, кто скуп на любовь, а кто отдает себя без остатка.
Я к чему этот разговор завела и на исповедь согласилась – портрет Ваш написать хочу, душа у Вас кровью исходит при внешнем спокойствии.
Отец Прокл еще пытался распознать, что кроется за этими словами – обычный блуд, который девица хочет прикрыть красивыми рассуждениями или… Только он не успел додумать, как Женька закрыв глаза, нашла на ощупь его лицо руками и кончиками пальцев стала обводить его контур: брови, нос, скулы. Но когда, крылышками бабочки ее пальцы пробежали по его губам, он, ощутив жаркий прилив, оттолкнул ее, да так, что девушка, находящаяся в трансе, от неожиданности упала:
— Вон, вон из церкви, блудница.
Мы с Танькой от голоса, показавшегося нам громовым раскатом, рванули, что есть духу.
Хорошо, что нас было только двое, будь третья, мы бы обязательно растрепали об увиденном. Но когда, добежав до рощицы, мы отдышались, нам стало стыдно, как, если бы мы тайком заглянули в кабинет хирурга, где больной, сняв бинты, показывал ему свою рану, причем, в скрытом от посторонних глаз, месте. Мы даже не договаривались о том, что не будем рассказывать, просто, когда Валя стала расспрашивать нас, Татьяна сказала, что ничего ни увидеть, ни услышать не удалось – окна высоко от земли, а я согласно кивала.
К вечеру совершенно неожиданно пошел дождь, который только утвердил нас в намерении молчать.
Более того, мы теперь старались защитить Женьку от необоснованных обвинений других девчонок, хотя, ей по большому счету было плевать на наше заступничество.
В тот вечер она пришла поздно, ела она что-нибудь днем или нет, неизвестно.
Только каждое утро, меняя футболки, но, одевая все те же юбку и платок, она брала этюдник и уходила. Ее видели на территории церкви, но без этюдника.
А дней через пять над рощицей за храмом поднялся дым. Мы бы его не заметили, только священник, смешно путаясь в полах рясы, побежал в ту сторону с ведром воды. Парни, знающие о нашем восхищении им, искали повод, развенчать таинственного соперника, а тут он сам подставился, чем они не преминули воспользоваться и подняли его на смех. Только, когда он вернулся и, зачерпнув воды из бочки, побежал снова, мы поняли, что-то случилось и все, как по тревоге побежали в лес. Там, в сырой ложбинке лежали почти сожженные портреты батюшки, написанные маслом. Один, наименее обгоревший, был отброшен в сторону. Все воззрились на него. По мнению большинства, портрет был великолепен и никто не сомневался, чьих это рук дело, ясно Женькиных. Только ее нигде не было.
Мальчишки хотели взять обгоревший холст, но батюшка сказал тихо и повелительно:
— Не троньте.
Чувствуя себя неразумными детьми, веселящимися на пожаре, мы постояли еще немного и разошлись. Женька, которую мы с Таней хотели спасти от голода, а потому ставили ей в палатку железную миску с кашей или макаронами с тушенкой и чай, пришла поздно, нырнула под полог и не вышла до утра.
Утром, она опять разделась догола, и мылась в холодной речке, а потом ушла. Ела она или нет, мы не видели, может, выбросила — миска и кружка стояли снаружи рядом с палаткой. Мы уже хотели просить помощи преподавателей, но, прячась с Танькой в кустиках, туалет был только за церковью, вдруг услышали жалобное скуление брошенного щенка. Продравшись сквозь частый кустарник, мы оказались на небольшой полянке, в центре которой стоял Женькин этюдник, а сама она, съежившись в комок, и, закусив зубами палец, плакала. Этот жалобный плач поразил нас, мы ни разу не видели ее слез, но еще больше поразили акварельные наброски батюшки. Если бы сложить их вместе, а их было около десятка, и прокрутить как мультфильм, то из ангела, со смирением принимающего свою участь, он превращался в демона, чей взгляд был полон земной страсти и бессилия одновременно. Мы заворожено переводили взгляды с одного рисунка на другой, а потом на Женю. И, хотя, стояли мы тихо, она почувствовала наше присутствие. Ожидая какой-нибудь дерзости с ее стороны, мы готовы были ретироваться, но она вдруг села и начала говорить:
— Я люблю его, люблю. В первый раз я поняла, что, значит, любить одного единственного человека. Только там, на небе, распорядились по-другому.
— Он, что, женат? – Таньке хотелось понять, как он может отказаться от такой красавицы.
— Если бы? – Женька зло посмотрела на небо, — он вдовец. Пять лет назад, еще до рукоположения в сан, он женился, ему было двадцать три года.
А три года назад, жена при родах умерла. И, знаете, что? Он не имеет больше права жениться. Представляете, красивый молодой парень, ему бы детей подобных себе нарожать, а он не имеет на это права.
— Что так уж, прямо и нельзя? – Произнесла Танька с сочувствием.
— Иногда, но крайне редко, церковь дает разрешение: у батюшки может быть только одна жена, и только один брак.
— А, если он хорошо попросит, может быть разрешат, — не унималась Танька.
— Даже, если бы церковь пошла навстречу, то на мне он точно жениться не может: священники женятся только на девственницах, — она встала и начала собирать акварельные рисунки, явно намереваясь их порвать.
— Не надо, не рви, пожалуйста, — Татьяна умоляюще сложила руки, отдай мне, они такие замечательные.
— Бери, только здесь нет его души, здесь один разум.
— А он может уйти из священников? — Я задала вопрос, который напрашивался сам собой.
— Я просила его на коленях об этом, только он, ведь, верит в Бога по-настоящему, а у меня даже портрета его не останется.
— Так не выбрасывай эти, — Татьяна протянула было, собранные ею акварели.
— Здесь нет его души, — взгляд ее принял обычное отсутствующее выражение, но она договорила, — только портрет у меня будет. Она перестала нас видеть и мы, потоптавшись еще какое-то время, ушли.
Женькина палатка стояла последней в ряду, а наша перед ней. Вечером, когда все угомонились, а ее все не было, я решила поискать ее на той поляне, вдруг ей стало плохо – ведь, она практически не ест.
Я увидела их раньше, они выходили из воды. Даже, сейчас, а, может быть, особенно сейчас, когда я сама ближе к Богу, я не буду утверждать, что это был священник. Рясы на нем не было, на нем ничего вообще не было, а двенадцатый час ночи в июле четко обрисовывал мужской и женский силуэты и только. Может быть, это был кто-то из деревенских. Но кто бы там, ни был, увиденное на берегу заворожило меня.
Если бы я была режиссером, то сняла бы обязательно эту красивую сцену, когда мужчина и женщина поклоняются любви: девушка — статуэтка стояла, подняв руки к небу, а мужчина, начиная с пальчиков ног, покрывал поцелуями ее тело. Я отвернулась, здесь, как и в церкви творилась тайна исповеди. Стараясь ступать тихо, я прошла по берегу, забралась в палатку и легла. Потом долго прислушивалась, но так и не услышала, когда приходила Женька.
Утром мы с Татьяной обнаружили сырой масляный портрет отца Прокла и записку. На портрете глаза батюшки сияли светом первозданной бесконечной любви, если бы мы не видели самого священника, то могли бы подумать, что это икона. Он буквально гипнотизировал нас, и мы не сразу прочитали записку, которая огорошила еще больше.
Женька велела передать портрет отцу Проклу, а еще она просила не искать ее. Мы передали записку преподавателям, а затем отнесли холст в церковь, дверь, как и в прошлый раз, была открыта. Батюшки видно не было, Татьяна, неловко перекрестившись, поставила подрамник рядом с иконами.
Больше мы Женьку не видели. Кто-то говорил, что она ушла в монастырь, и пишет иконы. И, в самом деле, в одном из монастырей в этом крае был бум на писаные монастырские иконы. Но я склонна верить преподавателям, которые в начале следующего семестра сказали, что Женька перевелась в Академию Художеств, потому, что в холле университета долгое время висели ее архитектурные проекты, и нам, ее однокурсникам, они казались гениальнее творений Корбюзье. На встрече выпускников через двадцать лет мы увидели другие работы. Новые времена – новые кумиры. Только Женька на встречу не пришла.
Ульяновск

Подруги ее звали Ёжкой по первым буквам инициалов. Она не обижалась, хотя бы потому, что на курсе ни один парень не остался равнодушным к ней: кто-то долго смотрел ей вслед, и, вздохнув, цокал языком, кто-то ненавидел — несмотря на лидерство и то, что называют обаянием самца, она при всех круто отшивала. Для них она становилась Ягой, чьего языка они опасались и потому называли ее так только за спиной.
Глаза ее, карие от природы, сильно подведенные в стиле а – ля Клеопатра, вкупе с распущенными волосами, что змеились локонами по плечам и спине, притягивали взгляды и мужчин, и женщин. Высокая и гибкая, она могла надеть самый невообразимый балахон, и это становилось модным среди студенток архитектурного факультета, да и не только. Но то, что шло ей, смотрелось гротеском на других. Только она не замечала этого. Она жила тем, что писала или рисовала в данный момент. Проходя мимо мольбертов, она, казалось, не видит лиц рисующих, но если работа ее заинтересовывала, она останавливалась и начинала, вглядываясь в лицо собеседника, задавать вопросы, говорить, чего бы она добавила или убрала из рисунка. А потом несколькими взмахами кисти или карандаша оживляла работу так, что автор больше не притрагивался к ней, боясь испортить. Если она находила собеседника интересным, то шла к нему. Ее мало волновало, что о ней скажут, а говорили многое.
Да и как не говорить, засидевшись за спором, или за рисованием, она оставалась ночевать, без сожаления или стеснения даря себя тому счастливцу, который увлек ее творческой идеей или вдохновением. Говорят, что она спала и с девчонками, но в отличие от парней, они этот факт не рекламировали. Только часто в ее учебных композициях студенты и студентки узнавали себя обнаженных, и поражались, как она могла запомнить особенности фигуры, не делая набросков, видя и прославляя тщедушное тело избранника на одну ночь.
Преподаватели закрывали на все глаза, потому что именно ее работы посылались на всевозможные выставки и представляли творческий потенциал университета. Ее самое удачно изобразил только один из парней, когда она увлеченно писала закат во время пленэра. В купальнике, откидывающей запястьем, потому что пальцы были измазаны краской, волосы, которые упрямо норовили попасть на палитру. За этим этюдом выстроилась очередь из желающих купить его студентов. Она и этого не знала.
Женя, так назвала ее когда-то мать, снимала квартиру. Пенсионерка — далеко не древняя старушка мирилась с причудами квартирантки потому, что оплачивал проживание отец. Наверное, он считал себя виноватым за то, что женился через год после смерти Женькиной матери. Он хотел, чтобы в доме была женщина, умеющая ладить со странным ребенком, не играющим в куклы, подолгу молчащим или рассматривающим вещь, небо, корягу. Но ни он сам, ни мачеха так и не смогли найти к ней подход. Самое лучшее, что они придумали – оставить девочку в покое. Она ела с одинаково отсутствующим видом и деликатес, и холодную картошку. Учила только те предметы, которые ее интересовали.
В старших классах к ним пришел преподаватель рисования и настоятельно попросил записать девочку в художественную школу. Отец был рад, что, хоть кто-то, нашел в его дочери объяснение странностям поведения. Она начала посещать изостудию и на отца сошел благословенный покой. Женя не чокнутая, как иногда шептались соседи, а необычайно одаренная девочка.
Зная, что дочь не будет готовить или прибираться в квартире, он снял комнату и договорился, что женщина два раза в день должна кормить ее. Единственно о чем они не завели разговор, это о том, можно ли ей приводить к себе гостей. Но как выяснится позже, Женя и не собиралась их приглашать, она пропадала сама.
Я познакомилась (это громко сказано) с ней на пленэре после третьего курса, когда художественно-графический и архитектурный факультеты было решено отправить на практику в одно и то же место. Расположились мы неподалеку от местной церквушки, которая стояла на высоком берегу реки. Палаточный лагерь разбили ниже, где бил родник.
Условия проживания, особенно для городских, тяжелые: ни душа, ни туалета, комары, не дающие заснуть, если плотно не зашнуруешь палатку. После трех дней пребывания прически девчонок потеряли первоначальный вид, а на коже всех студентов появились красные зудящие пятна от укусов комаров. И только Женька выглядела так же, как и в университете. Более того от нее исходил запах травы и белого перца, не идущий ни в какое сравнение с дезодорантами.
Девчонкам палец в рот не клади, дай посплетничать, а уж, если они выглядят хуже той, о которой судачат, то тут только слушай. А поскольку Женя никогда не прислушивалась к сплетням, то несли всякие небылицы, что она цыганка (это было похоже на правду, фамилия у нее была – Жемчужная), обладает гипнозом, хотя были и такие, которые считали ее колдуньей, потому что всех парней приворожила.
Однажды я проснулась раньше и, спустившись к реке, увидела, как нагая Женька моет волосы гусиным мылом. Я поняла, почему мальчишки мечтают о ней: узкая в кости, она была статуэткой, с любовью вылепленной создателем. У тонкой в талии Женьки, грудь была округлой и напоминала зрелый гранат, а на бедрах ни капельки лишнего жира. Тогда, честно говоря, я сначала подумала, что и впрямь она колдовством занимается, только хрустнувшая под ногой ветка и мой удивленный взгляд, заставили ее обернуться и объяснить, что она при сборах на пленэр забыла и шампунь, и мыло, и мочалку. Теперь вот подручными средствами обходится.
Я предложила ей свой шампунь, которым она будет пользоваться как своим, а потом и вовсе потеряет, так что к концу третьей недели, мне самой пришлось бегать по девчонкам. А вот трава, которой, она терлась, мне понравилась, сейчас я ее, наверное, не смогу отыскать. Она, размоченная в воде, становилась шелковистой мочалкой и, кажется, мылилась, да при этом еще оставляла на теле очень приятный запах.
Может быть за шампунь, потому что отнести меня к когорте особо одаренных живописцев нельзя, Женька предложила написать мой портрет. Мне очень хотелось иметь портрет ее работы, но провинциальное воспитание и слухи о том, как она готовит натуру, заставили сослаться на то, что мой парень не даст спокойно позировать. Женька оглядела меня, как бы, не понимая, что я говорю, и ушла в себя. То есть, вот она разговаривала со мной, а потом стала смотреть сквозь меня. Мне даже захотелось потрогать самое себя, есть ли я на самом деле. Только все это мелочи.
Церковь, вблизи которой мы расположились лагерем, казалась заброшенной. Фасады ее некогда белые осыпались, изгородь, поставленная заслоном от животных, покосилась. Но протертая среди травы тропа, указывала на то, что сюда ходят и даже есть священник. Выяснилось это после того, как Женька, привычно одетая в купальник, разложила этюдник и стала писать пейзаж с церквушкой. Вот тогда-то все и началось. К ней подошел человек в рясе и, стараясь не смотреть на ее наготу, сказал, что на территории храма надо находиться в подобающем виде. Наверное, он бы добавил, что-нибудь нравоучительное, но, увидев этюд, велел ей одеть, да не мужские штаны, а юбку и платком голову прикрыть, тогда он не будет против ее работы над рисунком.
Только Женька, забыв все, глядела на лицо священника. Он был красив необычайно — в этот раз все девчонки двух факультетов были солидарны с ней: то ли от природы такое, то ли загорелое от работы на улице – лицо его было смуглым и бледным одновременно. Большие синие глаза, запавшие и потому особенно выразительные, тонкий хрящеватый нос – напоминали лики с икон, а рот, может быть оттого, что мы не видели говорящих святых, был чувственным. Даже когда он поджимал губы, они выглядели скорее капризно, но не аскетично.
Женька послушалась и на следующий день оделась, как велел священник. Видели бы вы ее, мы — завистницы, когда она вышла с этюдником из палатки, замолчали: юбка, наподобие цыганской, волочилась по земле, белая футболка, оттенила чистую загорелую кожу, а волосы, закрутив на макушке в узел, она повязала платком, кто ее только так научил, ведь, сроду платков не носила. Великомученица – ни дать, ни взять, а может, она ей и была. Только Женька, не видя наших взглядов, прошествовала босая к церкви. Нас распирало любопытство и, немного погодя, мы пошли следом.
Не было в нас тогда никакой святости, а Бог был. Поднимаясь наверх и цепляясь за корневища деревьев, что торчали из крутого берега, Валька с архитектурного, крупная и полная девчонка, сорвалась и скатилась вниз. Нам с Танькой пришлось съехать по глиняной тропе к ней. Но она отмахнулась, идите, мол, а то пропустите все интересное. Мы почти бегом помчались за далеко ушедшей однокурсницей.
Но начало встречи пропустили, потому что и священник, и Женя, поговорив немного у входа в церковь, вошли внутрь. А мы, еще бегали, искали окно, из которого их будет видно. Но, не найдя ничего лучшего, вошли в церковный придел и стали заглядывать в приоткрытую дверь.
Странно тихо и спокойно было внутри.
Полумрак церкви ближе к алтарю теплился желтым сиянием свечек, освещавших лики святых на иконах, а священник и Женька стояли справа в столбе солнечного света, падающего из окна сверху.
Пылинки кружились и сверкали в нем, создавая ореол таинства.
Запах ладана напомнили мне о покойниках и по спине пробежал холодок. Но отвлекаться было некогда, потому что, упустив начало разговора, мы не сразу поняли, о чем идет речь.
— А как обращаются к священникам? – Женька видимо тоже была в церкви впервые.
— Ты можешь называть меня просто — батюшка или отец Прокл.
— Хорошо, отец Прокл, а о чем говорят на исповеди?
— На исповеди люди говорят о том, что мучает их душу, не дает покоя, о прегрешения.
— Батюшка, — услышав это обращение Женьки к мужчине, который был немного старше ее, мы с Танькой чуть не прыснули со смеху, но вовремя закрыли рты.
— Батюшка, — повторила она, — я люблю рисовать. Я рисую все: вещи, дома, деревья, людей. И у всего есть душа. Вот, к примеру, дотронулась я вчера до березы, ну, той, старой, что у тропы в церковь растет, а она сучковатыми ветками ко мне потянулась и жалуется, что скрипят они у нее, больно ей – к дождю верно. Или Ваша церковь, погладила я ей оспинки осыпавшейся извести, а она мне говорит: «Рисуй, рисуй меня больную. Только я здоровее и моложе тебя стану через пару десятков лет». Вот я и рисую, — Женька помялась. Потом продолжила:
— Сложнее с людьми, пустые они в суете своей. Хотят свой портрет: оденутся парадно, прическу сделают, а на рисунке только тщеславие получается, — мы с Танькой переглянулись – вот, значит, мы какие.
Батюшка, привыкший к исповедям старых прихожанок, которые каялись в злобе к близким, в мелком воровстве, пьянстве или блуде, слушал молодую девушку с интересом.
— Иногда, — продолжила Женька, — люди вспыхивают изнутри от жалости к кому-то, любви или вдохновения и тогда душа у них, как на ладони. В этот момент мне их любить хочется. Нет, не так, не по — Вашему. Я должна дотронуться кончиками пальцев и до лица, и до тела. Вы знаете, батюшка, в этот самый миг, ну Вы знаете, о каком я говорю, — девушка поглядела на священника, а он опустил веки, прикрывая блеск глаз, — вот в этот миг сразу становится понятно, кто скуп на любовь, а кто отдает себя без остатка.
Я к чему этот разговор завела и на исповедь согласилась – портрет Ваш написать хочу, душа у Вас кровью исходит при внешнем спокойствии.
Отец Прокл еще пытался распознать, что кроется за этими словами – обычный блуд, который девица хочет прикрыть красивыми рассуждениями или… Только он не успел додумать, как Женька закрыв глаза, нашла на ощупь его лицо руками и кончиками пальцев стала обводить его контур: брови, нос, скулы. Но когда, крылышками бабочки ее пальцы пробежали по его губам, он, ощутив жаркий прилив, оттолкнул ее, да так, что девушка, находящаяся в трансе, от неожиданности упала:
— Вон, вон из церкви, блудница.
Мы с Танькой от голоса, показавшегося нам громовым раскатом, рванули, что есть духу.
Хорошо, что нас было только двое, будь третья, мы бы обязательно растрепали об увиденном. Но когда, добежав до рощицы, мы отдышались, нам стало стыдно, как, если бы мы тайком заглянули в кабинет хирурга, где больной, сняв бинты, показывал ему свою рану, причем, в скрытом от посторонних глаз, месте. Мы даже не договаривались о том, что не будем рассказывать, просто, когда Валя стала расспрашивать нас, Татьяна сказала, что ничего ни увидеть, ни услышать не удалось – окна высоко от земли, а я согласно кивала.
К вечеру совершенно неожиданно пошел дождь, который только утвердил нас в намерении молчать.
Более того, мы теперь старались защитить Женьку от необоснованных обвинений других девчонок, хотя, ей по большому счету было плевать на наше заступничество.
В тот вечер она пришла поздно, ела она что-нибудь днем или нет, неизвестно.
Только каждое утро, меняя футболки, но, одевая все те же юбку и платок, она брала этюдник и уходила. Ее видели на территории церкви, но без этюдника.
А дней через пять над рощицей за храмом поднялся дым. Мы бы его не заметили, только священник, смешно путаясь в полах рясы, побежал в ту сторону с ведром воды. Парни, знающие о нашем восхищении им, искали повод, развенчать таинственного соперника, а тут он сам подставился, чем они не преминули воспользоваться и подняли его на смех. Только, когда он вернулся и, зачерпнув воды из бочки, побежал снова, мы поняли, что-то случилось и все, как по тревоге побежали в лес. Там, в сырой ложбинке лежали почти сожженные портреты батюшки, написанные маслом. Один, наименее обгоревший, был отброшен в сторону. Все воззрились на него. По мнению большинства, портрет был великолепен и никто не сомневался, чьих это рук дело, ясно Женькиных. Только ее нигде не было.
Мальчишки хотели взять обгоревший холст, но батюшка сказал тихо и повелительно:
— Не троньте.
Чувствуя себя неразумными детьми, веселящимися на пожаре, мы постояли еще немного и разошлись. Женька, которую мы с Таней хотели спасти от голода, а потому ставили ей в палатку железную миску с кашей или макаронами с тушенкой и чай, пришла поздно, нырнула под полог и не вышла до утра.
Утром, она опять разделась догола, и мылась в холодной речке, а потом ушла. Ела она или нет, мы не видели, может, выбросила — миска и кружка стояли снаружи рядом с палаткой. Мы уже хотели просить помощи преподавателей, но, прячась с Танькой в кустиках, туалет был только за церковью, вдруг услышали жалобное скуление брошенного щенка. Продравшись сквозь частый кустарник, мы оказались на небольшой полянке, в центре которой стоял Женькин этюдник, а сама она, съежившись в комок, и, закусив зубами палец, плакала. Этот жалобный плач поразил нас, мы ни разу не видели ее слез, но еще больше поразили акварельные наброски батюшки. Если бы сложить их вместе, а их было около десятка, и прокрутить как мультфильм, то из ангела, со смирением принимающего свою участь, он превращался в демона, чей взгляд был полон земной страсти и бессилия одновременно. Мы заворожено переводили взгляды с одного рисунка на другой, а потом на Женю. И, хотя, стояли мы тихо, она почувствовала наше присутствие. Ожидая какой-нибудь дерзости с ее стороны, мы готовы были ретироваться, но она вдруг села и начала говорить:
— Я люблю его, люблю. В первый раз я поняла, что, значит, любить одного единственного человека. Только там, на небе, распорядились по-другому.
— Он, что, женат? – Таньке хотелось понять, как он может отказаться от такой красавицы.
— Если бы? – Женька зло посмотрела на небо, — он вдовец. Пять лет назад, еще до рукоположения в сан, он женился, ему было двадцать три года.
А три года назад, жена при родах умерла. И, знаете, что? Он не имеет больше права жениться. Представляете, красивый молодой парень, ему бы детей подобных себе нарожать, а он не имеет на это права.
— Что так уж, прямо и нельзя? – Произнесла Танька с сочувствием.
— Иногда, но крайне редко, церковь дает разрешение: у батюшки может быть только одна жена, и только один брак.
— А, если он хорошо попросит, может быть разрешат, — не унималась Танька.
— Даже, если бы церковь пошла навстречу, то на мне он точно жениться не может: священники женятся только на девственницах, — она встала и начала собирать акварельные рисунки, явно намереваясь их порвать.
— Не надо, не рви, пожалуйста, — Татьяна умоляюще сложила руки, отдай мне, они такие замечательные.
— Бери, только здесь нет его души, здесь один разум.
— А он может уйти из священников? — Я задала вопрос, который напрашивался сам собой.
— Я просила его на коленях об этом, только он, ведь, верит в Бога по-настоящему, а у меня даже портрета его не останется.
— Так не выбрасывай эти, — Татьяна протянула было, собранные ею акварели.
— Здесь нет его души, — взгляд ее принял обычное отсутствующее выражение, но она договорила, — только портрет у меня будет. Она перестала нас видеть и мы, потоптавшись еще какое-то время, ушли.
Женькина палатка стояла последней в ряду, а наша перед ней. Вечером, когда все угомонились, а ее все не было, я решила поискать ее на той поляне, вдруг ей стало плохо – ведь, она практически не ест.
Я увидела их раньше, они выходили из воды. Даже, сейчас, а, может быть, особенно сейчас, когда я сама ближе к Богу, я не буду утверждать, что это был священник. Рясы на нем не было, на нем ничего вообще не было, а двенадцатый час ночи в июле четко обрисовывал мужской и женский силуэты и только. Может быть, это был кто-то из деревенских. Но кто бы там, ни был, увиденное на берегу заворожило меня.
Если бы я была режиссером, то сняла бы обязательно эту красивую сцену, когда мужчина и женщина поклоняются любви: девушка — статуэтка стояла, подняв руки к небу, а мужчина, начиная с пальчиков ног, покрывал поцелуями ее тело. Я отвернулась, здесь, как и в церкви творилась тайна исповеди. Стараясь ступать тихо, я прошла по берегу, забралась в палатку и легла. Потом долго прислушивалась, но так и не услышала, когда приходила Женька.
Утром мы с Татьяной обнаружили сырой масляный портрет отца Прокла и записку. На портрете глаза батюшки сияли светом первозданной бесконечной любви, если бы мы не видели самого священника, то могли бы подумать, что это икона. Он буквально гипнотизировал нас, и мы не сразу прочитали записку, которая огорошила еще больше.
Женька велела передать портрет отцу Проклу, а еще она просила не искать ее. Мы передали записку преподавателям, а затем отнесли холст в церковь, дверь, как и в прошлый раз, была открыта. Батюшки видно не было, Татьяна, неловко перекрестившись, поставила подрамник рядом с иконами.
Больше мы Женьку не видели. Кто-то говорил, что она ушла в монастырь, и пишет иконы. И, в самом деле, в одном из монастырей в этом крае был бум на писаные монастырские иконы. Но я склонна верить преподавателям, которые в начале следующего семестра сказали, что Женька перевелась в Академию Художеств, потому, что в холле университета долгое время висели ее архитектурные проекты, и нам, ее однокурсникам, они казались гениальнее творений Корбюзье. На встрече выпускников через двадцать лет мы увидели другие работы. Новые времена – новые кумиры. Только Женька на встречу не пришла.
Портал БАШНЯ. Копирование, Перепечатка возможна при указании активной ссылки на данную страницу.