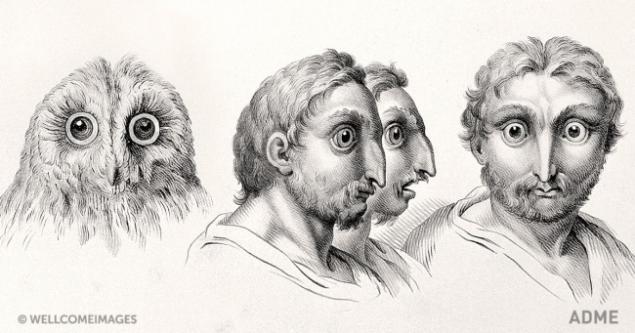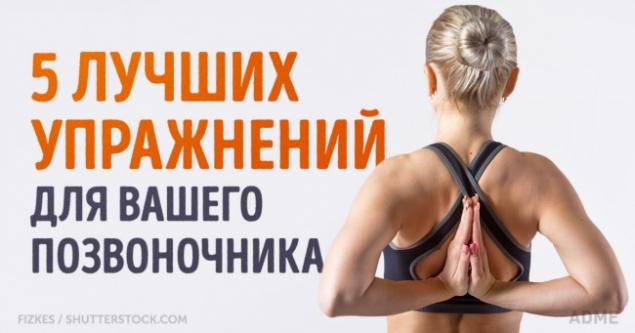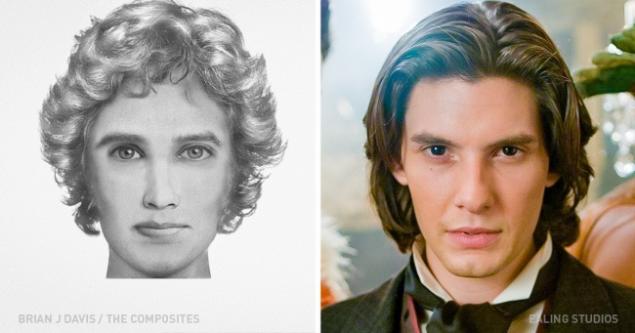10 книг о той самой любви, которая меняет мир
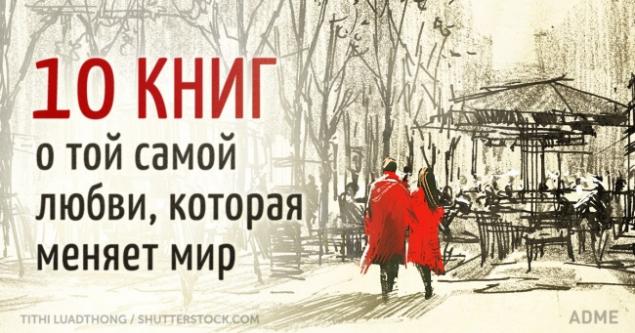
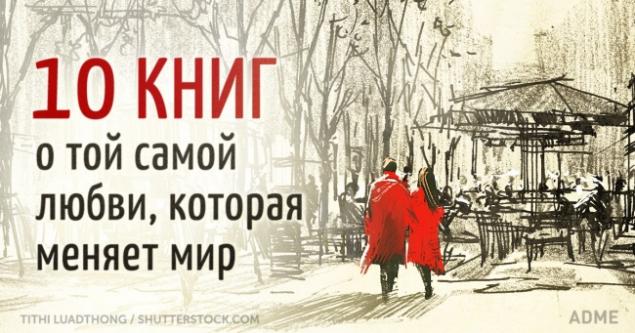
Кто бы что ни говорил, но большую часть Поступков с большой буквы люди совершают из-за любви. Или ради нее. Иногда она переворачивает мир с ног на голову, меняет его до неузнаваемости, затрагивая всех без исключения. А иногда меняет судьбы отдельных людей. В Афганистане и солнечной Италии, Германии и Аргентине — по всему земному шару день за днем обычные мужчины и женщины вдруг понимают, что жить не могут без этого человека и теперь готовы на все, и каждый отдельный случай — это капля в море перемен.
Мы в Сайт уверены, что любовь — величайшая движущая сила. Поэтому собрали для вас 10 книг, которые как раз об этом.
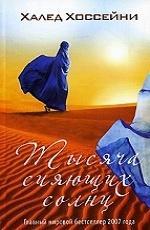
Халед Хоссейни —
«Тысяча сияющих солнц»
Любовь — великое чувство. Глубоко запрятанная, запрещенная, тайная, она все равно дождется своего часа. Эта книга о любви, о войне, о самопожертвовании, о силе женщин, о преданности. При всей своей серьезности книга дарит легкую как перышко надежду, что все обязательно будет хорошо: у героев, у читателя, у каждого из нас.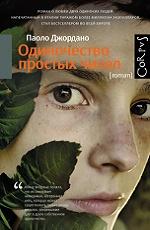
Паоло Джордано —
«Одиночество простых чисел»
Жили на свете замкнутый мальчик-отличник и одинокая, страдающая анорексией девочка. Жили и однажды встретились. И сразу поняли, что их связывает невидимая, но очень прочная нить. Мальчик думает, что они — простые числа, одинокие и потерянные; они стоят рядом, хоть и не настолько, чтобы по-настоящему соприкоснуться.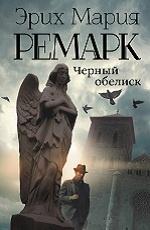
Эрих Мария Ремарк —
«Черный обелиск»
Сложные годы после Первой мировой войны, провинциальный немецкий городок, герой работает в фирме по продаже надгробий. Денег не хватает, в стране инфляция, и он подрабатывает игрой на органе в часовне при больнице. Любовь он встречает именно там, в психиатрическом отделении. Это Ремарк, друзья, и этим все сказано.
Габриэль Гарсиа Маркес —
«Любовь во время холеры»
Возможно ли, что, влюбившись в юности, человек пронесет свою любовь через всю жизнь? Что любовь будет руководить всеми его поступками? Да, возможно. Пройдут годы, изменятся границы государств, уйдут из обихода привычные слова, а ты будешь любить ее. Или его. Потому что труднее и вместе с тем легче любви ничего в этом мире нет.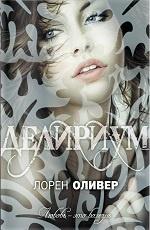
Лорен Оливер — «Делириум»
Перед нами мир, в котором любовь запрещена. Это болезнь, опаснейшая амор делириа, и человеку, нарушившему запрет, грозит жестокое наказание. Посему любой гражданин, достигший 18 лет, обязан пройти процедуру освобождения от памяти прошлого, несущего в себе микробы болезни. Лине до процедуры осталось несколько месяцев, и жила бы она как все, если бы не встретила особенного человека.Эндрю Дэвидсон — «Горгулья»
Роман поразительной глубины. Он окутывает флером сказок, тянет нить сквозь века и национальности, сближает людей, склеивает воедино судьбы. Это любовь, которая сильнее бубонной чумы, способная кричать на весь мир устами стеклянной статуи. Это злоба тех, чей удел — смирение. И столько в книге маленьких миров, крохотных историй жизни, что это становится похоже на капли на теле мира.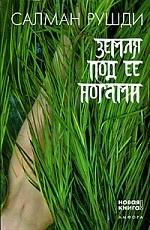
Салман Рушди —
«Земля под ее ногами»
Они встретились еще детьми и сразу полюбили друг друга. Они расставались десятки раз, были вместе и одновременно порознь и дарили миру свою необыкновенную музыку. Их голоса звучали на всех радиостанциях мира, а потом ее поглотила земля, и вся планета оплакивала ее смерть. Их любовь была суть музыка.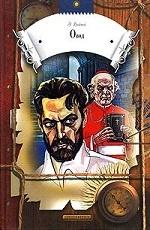
Этель Лилиан Войнич — «Овод»
Эта книга не только о любви, но и о дружбе, взаимопонимании, взрослении и выборе. В Италии началась революция, и любить при такой жизни непросто: с одной стороны, любовь дает силы, с другой — связывает руки. Книга пронизана светлой и вместе с тем горькой печалью о несбывшемся, и, говорят, над книгой рыдали едва ли не все, кто брал ее в руки, — столько в ней эмоций, близких каждому.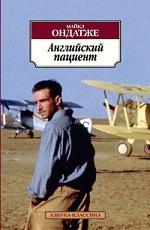
Майкл Ондатже —
«Английский пациент»
Война закончилась. На полуразрушенной вилле живет молодая женщина с «мертвыми» глазами. Недавно она подобрала обгоревшего англичанина и теперь пытается выходить его. А он взамен рассказывает ей историю своей жизни: о невероятной любви, которая спасла его когда-то и ради которой определенно стоит жить.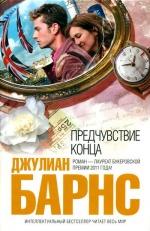
Джулиан Барнс —
«Предчувствие конца»
Когда большая часть жизни позади, приятно мысленно возвращаться в прошлое. Тони Уэбстер наслаждается покоем и вспоминает былое. А потом получает письмо, и покою приходит конец. В его прошлом была страница, которую он хотел вымарать, и ему даже удалось. Но прошлое неумолимо: пришло время открыть эту страницу снова.Превью: Tithi Luadthong/shutterstock.com
via www.shutterstock.com/pic.mhtml?id=360302045